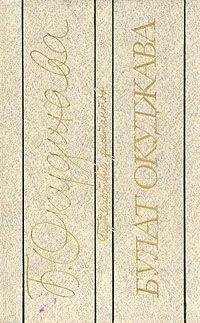Замок надежды
Я строил замок надежды. Строил-строил.
Глину месил. Холодные камни носил.
Помощи не просил. Мир так устроен:
была бы надежда — пусть не хватает сил.
А время шло. Времена года сменялись.
Лето жарило камни. Мороз их жег.
Прилетали белые сороки — смеялись.
Мне было тогда наплевать на белых сорок.
Лепил я птицу. С красным пером. Лесную.
Безымянную птицу, которую так люблю.
«Жизнь коротка. Не успеешь, дурак…» Рискую.
Женщина уходит, посмеиваясь. Леплю.
Коронованный всеми празднествами, всеми боями,
строю-строю. Задубела моя броня…
Все лесные свирели, все дудочки, все баяны,
плачьте, плачьте, плачьте вместо меня.
Не пугайся слова «кровь» —
кровь, она всегда прекрасна.
Кровь ярка, красна и страстна,
«кровь» рифмуется с «любовь».
Этой рифмы древний лад!
Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?
Жар ее неотвратим…
Разве ею ты не клялся
в миг, когда один остался
с вражьей пулей на один?
И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь, снова
прокричали песнь твою.
И когда пропал в краю
вечных зим, песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.
Мир качнулся. Но опять
в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять.
И не верь ты докторам,
что для улучшенья крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.
Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая.
Она зелена, как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.
Пока еще звезды последние не отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели, сойдите к дворам,
туда, где — трава, где пестреют мазки акварели…
И звонкая скрипка Растрелли послышится вам.
Неправда, неправда, всё — враки, что будто бы старят
старанья и годы! Едва вы очутитесь тут,
как в колокола купола золотые ударят,
колонны горластые трубы свои задерут.
Веселую полночь люби — да на утро надейся…
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.
О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита, кларнеты ограды
свистят менуэты… И улица Росси поет!
Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают, то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле стягиваются моем…
И музыка передо мной танцует гибко,
и оживает всё до самых мелочей:
пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!
Ночной комар, как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик.
и каждый жест велик, как расстоянье,
и веточка умершая жива, жива…
И стыдно мне за мелкие мои старанья
и за непоправимые слова.
…Вот сила музыки. Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,
как будто трубы медные зазвали
куда-то горячо и далеко…
И музыки стремительное тело
плывет, кричит неведомо кому:
«Куда вы все?! Да разве в этом дело?!»
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!!
…Вот черт, как ничего еще не надоело!
«Я никогда не витал, не витал…»
Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил.
Так что же я смею? И что я могу?
Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не полюблю
женщин, которых не полюблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу,
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу,
в пуле, которую не заслужу?
«Нацеленный в глаз одинокого лося…»
Нацеленный в глаз одинокого лося.
Рога в серебре, и копыта в росе.
А красный автобус вдоль черного леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.
Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим…
Горбатых снопов золотые верблюды
упрямо и долго шагают за ним.
Шагают столбы по-медвежьи, враскачку,
друг друга ведут, как коней, в поводах,
и птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.
А лес раскрывает навстречу ворота,
и ветки ладонями бьют по лицу.
Кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной в лесу!
Сигнал повисает далекий-далекий.
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой дороге,
у черного леса, у синей реки.
«Мы приедем туда, приедем…»
Мы приедем туда, приедем,
проедем — зови не зови —
вот по этим каменистым, по этим
осыпающимся дорогам любви.
Там мальчики гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.
Перед чинарою голубою
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моей любовью
перемешиваются во мне.
…Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.
Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лицо дыша…
Мы наездились, мы не торопимся.
Мы хотим хоть раз не спеша.
После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,
вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.
И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.
И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.
Храмули — серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки, а нос — пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.
Но если вглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.
И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка — припев.
На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.
Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!
Представьте, она понимает призванье свое:
и громоподобные пиршества не для нее.
Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,
ей четкие пальцы и теплые губы нужны.
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасеньи души.