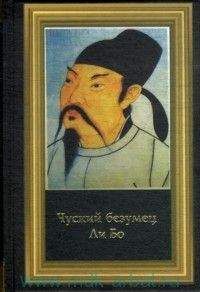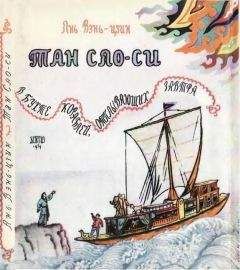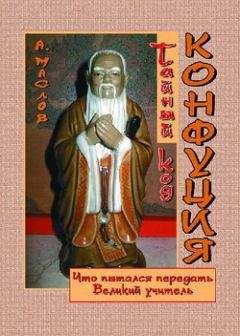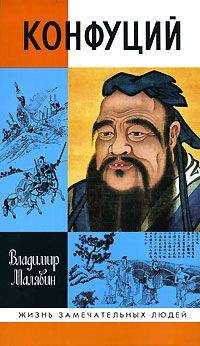725 г
В городе Юэян, что в округе Юэчжоу, куда после судьбоносной встречи со старцем отправился Ли Бо, а потом не раз бывал там, к нему почтительно приблизился крепкий мужчина лет сорока, назвавшись двенадцатым сыном семейства Ся. Это сразу сблизило их — Ли Бо ведь тоже считался двенадцатым в семействе Ли. Коммерсант по роду деятельности, Ся был чуток к поэтическому слову и еще в Цзянлине, восторженно сообщил он поэту, восхитился талантом Ли Бо, прочитав ходивший тогда по рукам список «Оды Великой Птице Пэн». Они поднялись на знаменитую деревянную трехэтажную западную башню городской стены, возвышающуюся над озером Дунтин, в великих и трагических местах Цюй Юаня. Построенная в 3 веке, разрушенная и восстановленная в 716 г., она именовалась Южной башней, пока Ли Бо в этом стихотворении не назвал ее Юэянской, и это название закрепилось за ней. Даньша приволок туда жбанчик известного в округе балинского вина. Во тьме угадывались очертания Царского холма напротив устья реки Сян, напоминая о древней трагической истории. Однако ночь скрадывала время, и было неведомо, какого века волны разбиваются о городскую стену.
Вместе с Ся-двенадцатым поднимаемся на Юэянскую башню
Ночью город исчез, только ты здесь, мой друг,
Тихо плещутся воды, вливаясь в Дунтин[52].
Грусть мою прихвати, гусь[53], летящий на юг,
Поднимись ко мне, месяц, из горных лощин.
Мы сойдем на плывущие к нам облака,
По бокалу вина поднесут небеса,
И порыв освежающего ветерка
Унесет нас, хмельных и веселых, назад.
759 г.
Живописное озеро Дунтин (2740 кв. м.), окаймленное по горизонту зигзагом зеленых гор, столь огромно, что солнце, восстав из его вод, в них же и садится. Оно производит странное впечатление — это цепь озер, одно внутри другого, рассеченных остриями холмов, выглядывающих из-под воды. Берега обильно поросли бамбуком, их тут множество видов, в том числе и пятнистый, который упоминается в финале следующего стихотворения. В древности это озеро именовалось «водоемом Облачных грез», а свое нынешнее название переняло у вздымающейся перед устьем реки Сян горы Дунтин, позже переименованной в Царскую (Цзюньшань). В этих местах сам воздух наполнен легендами, и Ли Бо, эмоционально погруженный в Чускую Древность, старался извлечь ее зовы из любых образов и ассоциаций. Таким же был он и в своих первых детских поэтических опытах. Увидев камень, очертаниями напоминающий женщину, он воспроизвел его в стихотворении как «окаменевшую жену», годами высматривающую мужа, ушедшего в военный поход. Ее трагическое молчание ассоциировалось у юного поэта с гордостью древней наложницы князя Си, плененного чуским Вэнь-ваном, не пожелавшей принять милость победителя (Чуская пленница). Ее страдание напомнило поэту о дочерях мифического императора Яо, женах его преемника Шуня, которые после смерти мужа бросились в реку Сян. Никому не ведомо, где упокоились их тела, но потомки соорудили на Царском холме могильный курган и поминальный храм, но беспокойный дух горемычных женщин, в легендах получивший имя Сянского, вечно и тщетно всматривается в затуманенный горный массив, так и не в силах отыскать могильный курган Шуня (об этом — следующее стихотворение). Однако Царский холм известен не только прошлым, но и настоящим — по всей стране расходится выращиваемый на его склонах чай «Серебристые иглы Царского холма».
Жена, окаменевшая в ожидании мужа
Как ритуальный каменный сосуд,
Наполненный печалью и надеждой,
Покрытый росами, что боль несут,
Одетый мхом, как древнею одеждой,
Она страдает, словно Сянский дух,
Как пленница из Чу, живет в молчанье:
Среди весны, затихнувшей в цвету,
Высматривает мужа в ожиданье.
715 г.
Ах, эта вечная разлука!
Царевны древние Нюйин и Эхуан
От вод Дунтинских в направленье юга,
Где плещут волны Сяо-Сян,
Ушли в глубины — десять тысяч ли.
О, как же тяжелы их муки!
Сокрылось солнце в туче черной мглы,
Гориллы взвыли, взбеленились духи.
Какой же я еще могу добавить штрих,
Коль верностью Владыка-Небо разъярен
И грома посылает гневный рык?!
От Яо — к Шуню, к Юю переходит трон,
Правитель без вельмож — рыбешка, не Дракон,
Сановник-крыса тигром рвется к власти,
Был Яо, говорят, в темницу заключен,
А Шунь в глухой степи оставил кости,
И в девяти ущельях гор Цзюи
Непросто шунев отыскать курган[54].
Роняют девы слезы горькие свои,
Бросаясь невозвратно в Сяо-Сян.
Найти курган им было не дано,
Как плакали они, превозмогая муку!
Обрушится курган, а Сян откроет дно —
Тогда лишь высохнут слезинки на бамбуках[55].
753 г.
Есть что-то глубоко символичное в том, что, пустившись в свои земные странствия с озера Дунтин, Ли Бо и отсчет финальной точки начал в тех же краях. Неправедно осужденный, отсидевший в остроге, снисходительно амнистированный с заменой смертной казни на ссылку и, наконец, полностью освобожденный, он вновь оказывается на Дунтин. Как мы видим из двух последующих стихотворений, внутреннее раскрепощение к нему не вернулось. Ли Бо вновь обращается мыслью к древней трагедии, мечтает о вечности Неба и подчеркивает, что Янцзы несет его на восток — туда, где в мифическом Восточном море на мифических островах с нетерпением ждут его бессмертные святые — в отличие от земных друзей, предавших опального поэта.
Вместе с дядей Хуа, шиланом из Ведомства наказаний,
и Цзя Чжи, письмоводителем Государственного секретариата, катаемся по озеру Дунтин
1
Янцзы, пройдя сквозь Чу, вновь на восток стремится,
Нет облаков, вода сомкнулась с небесами,
Закат осенний до Чанша готов разлиться…
Так где ж здесь Сянский дух? Не ведаем мы сами.
2
Над южным озером ночная мгла ясна.
Ах, если бы поток вознес нас к небесам!
На гладь Дунтин легла осенняя луна —
Винца прикупим, поплывем по облакам.
3
Я здесь в одном челне с изгнанником лоянским[58]
И с ханьским Юань Ли[59]: подлунные святые,
Мы вспомнили Чанъань, где знали смех и ласку…
О, где ж они теперь, те небеса былые?!
4
Склонилась к западу осенняя луна,
И гуси поутру уже летят на юг.
А мы поем «Байчжу»[60], компания хмельна,
Не замечаем рос, что хладом пали вдруг.
5
Из Сяо-Сян не возвратятся дети Яо[61]…
Осенние листы легли на воду снова,
Пятно луны посверкивает, как зерцало,
И Царский холм[62] багряной кистью обрисован.
759 г.
Захмелев, мы с дядей, шиланом, катаемся по озеру Дунтин
1
В лесу бамбуков пир сегодня наш[63],
Со мною дядя мой, шилан-мудрец.
Вместил в себя три чаши твой племяш —
И хмель его расслабил, наконец.
2
Мы песню кормчих лихо распеваем,
Влечет нас лодка по лучу луны.
Пусть чайки тут недвижно отдыхают,
А мы с бокалами взлетим, хмельны.
3
Сровнять бы подчистую Царский холм
И Сян-реке открыть простор Дунтина,
Тогда над озером осенним днем
Упьемся вусмерть мы вином Балина[64].
759 г.
Журавль — сакральная птица, на которой святые возносятся на Небо, но в этом стихотворении образ имеет дополнительную нагрузку: это и метоним друга, направляющегося в столицу служить императору (Сыну Солнца), и напоминание о прощании со старшим другом поэтом Мэн Хаожанем именно у этой башни Желтого Журавля; в то же время это и ассоциативный перенос (жемчужные плоды) на другую мифологическую птицу — Феникса (здесь это самоназвание Ли Бо), для которого не находится места на благородном Платане (то есть при императорском дворе).
Тучи сизые бросают хлопья снега
К башне Журавля[66]. Там суждено проститься,
Полетит Журавль до западного неба
На крылах своих нефритовых в столицу.
Что же в путь тебе оставить дальний этот?
Ведь плодов жемчужных[67] Фениксу не дали!
Я бреду за уходящим силуэтом
И роняю в реку Хань[68] слезу печали.
734 г.