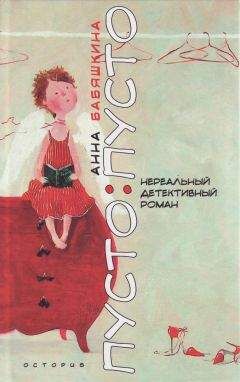Ознакомительная версия.
Гимн уюту
Слава и честь самовару —
первенцу наших утех!
Но помяну и гитару —
главную даму из всех.
Вот он – хозяин уюта,
золотом светится медь.
Рядом – хозяйка, как будто
впрямь собирается спеть.
Он запыхтит, затрясется,
выбросит пар к потолку —
тотчас она отзовется
где-нибудь здесь, в уголку.
Он не жалеет водицы
в синие чашки с каймой, —
значит, пора насладиться
пеньем хозяйки самой.
Бог не обидел талантом,
да и хозяин как бог,
вторит хозяйке дискантом,
сам же глядит за порог:
там, за порогом, такое,
что не опишешь всего…
Царствуй, хозяин покоя:
праведней нет ничего.
Слава и честь самовару!
Но не забудем, о нет,
той, что дана ему в пару,
талию и силуэт.
Врут, что она увядает.
Время ее не берет.
Плачет она и сгорает,
снова из пепла встает.
Пой же, и все тебе будет:
сахар, объятья и суд,
и проклянут тебя люди,
и до небес вознесут.
Пойте же, будет по чести
воздано вам за уют…
Вот и поют они вместе,
плачут и снова поют.
«Не сольются никогда зимы долгие и лета…»
Не сольются никогда зимы долгие и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид.
Не случайны на земле две дороги – та и эта,
та натруживает ноги, эта душу бередит.
Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,
потому что перед ней две дороги – та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.
Хоть разбейся, хоть умри – не найти верней ответа,
и куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,
неизменно впереди две дороги – та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.
«Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?..»
Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?
Едва твой гимн пространства огласит,
прислушаться – он от скорбей излечит,
а вслушаться – из мертвых воскресит.
Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?
Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко, в сопровожденье хора,
так звонко исповедуешься ты?
Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь. Авось твой труд упорный
потомки не оценят свысока.
Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда, взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.
Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне – намордник, воля – за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть…
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой – трехэтажный мат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
Чуть за Красноярском – твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Все ему подвластно, да опять не рад…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
«После дождичка небеса просторны…»
После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду – флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.
Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет!
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия… А поющих нет.
С нами женщины. Все они красивы.
И черемуха – вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.
Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.
Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.
И вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
И надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?
И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костер у дороги.
Зачем же вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула снова?
Зачем же вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
всё, капля по капле, и так до последнего слова.
Когда б вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?
Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.
«Мне не в радость этот номер…»
Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.
Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.
Ведь они мои, и только.
Что до них еще кому?
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.
Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.
Крикни громче, сделай милость,
чтоб на миг поверил я,
будто это лишь приснилось:
смерть моя и жизнь моя.
«Отчего ты печален, художник…»
Отчего ты печален, художник —
живописец, поэт, музыкант?
На какую из бурь невозможных
ты растратил свой гордый талант?
На каком из отрезков дороги
растерял ты свои медяки?
Все надеялся выйти в пророки,
а тебя занесло в должники.
Словно эхо поры той прекрасной,
словно память надежды былой —
то на Сретенке профиль твой ясный,
то по Пятницкой шаг удалой.
Так плати из покуда звенящих,
пот и слезы стирая со щек,
за истертые в пальцах дрожащих
холст и краски, перо и смычок.
Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг
очутиться!
Там – каналы, там – гондолы, гондольеры.
Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться:
ими жизнь моя отравлена без меры.
Там побеленные стены и фундаменты цветные,
а по стенам плющ клубится для оправы.
И лежат на солнцепеке безопасные, цепные,
показные, пожилые волкодавы.
Там у пристани танцуют жок, а может быть, сиртаки:
сыновей своих в солдаты провожают.
Всё надеются: сгодятся для победы, для атаки,
а не хватит – сколько надо, нарожают.
Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит.
Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим.
И объятья наши жарки, и над нами ангел кружит
и клянется нам, что счастливы мы будем.
Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том,
вчерашнем,
быть влюбленным и не думать о спасенье,
пить вино из черных кружек, хлебом заедать
домашним,
чтоб смеялась ты и плакала со всеми.
Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда,
в начало,
к тем ребятам уходящим приобщиться.
И с тобою так расстаться у дунайского причала,
чтоб была еще надежда воротиться.
Кони красные купаются в зеленом водоеме.
Может, пруд, а может, озеро, а то и океан.
Молодой красивый конюх развалился на соломе —
он не весел, он не грустен, он не болен и не пьян.
Он из местных, он из честных, он из конюхов
безвестных,
он типичный представитель славной армии труда.
Рядом с ним сидит инструктор в одеяниях
воскресных:
в синем галстуке, в жилетке. Тоже трезв, как никогда.
А над ним сидит начальник – главный этого района.
Областной – слегка поодаль. Дальше – присланный
Москвой…
И у этого-то, кстати, ну не то чтобы корона,
но какое-то сиянье над кудрявой головой.
Волны к берегу стремятся, кони тонут друг за другом.
Конюх спит, инструктор плачет, главный делает
доклад,
а москвич командировочный как бабочка над лугом,
и в глазах его столичных кони мчатся на парад.
Там вожди на мавзолее: Сталин, Молотов,
Буденный,
и ладошками своими скромно машут: нет-нет-нет…
То есть вы, мол, маршируйте по степи
по полуденной,
ну а мы, мол, ваши слуги, – значит, с нас и спросу
нет.
Кстати, конюх тоже видит сон, что он на мавзолее,
что стоит, не удивляется величью своему,
что инструктор городского комитета, не жалея
ни спины и ни усердья, поклоняется ему.
Эта яркая картина неспроста его коснулась:
он стоял на мавзолее, широко разинув рот!..
…Кони все на дне лежали, но душа его проснулась,
и мелькал перед глазами славных лет круговорот.
Прощальная песенка волковских актеров
Ознакомительная версия.