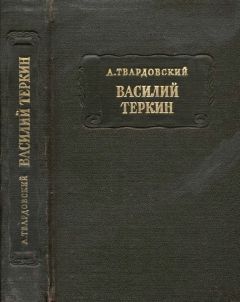Прощаясь, извиняюсь, жму ему руку, а у него такая трогательная растерянность на лице.
– А я, знаете, хотел вам все по порядочку, как следует. К самым немцам хотел вас сводить, вот как до этих саней, сидят они там совсем близенько.
В полку я вдруг узнаю, что это и есть тот самый комбат Красников, о котором мне рассказывали в дивизии. Комбат без звания и с неснятой судимостью.
Утром я взял лошадь в полку и поехал опять в этот батальон. Как он обрадовался, Красников! Он, видно, решил, что люди перестают им интересоваться, узнав, что он судимый, сидел в тюрьме. Все равно, мол, о таком не напишешь в газете.
Поводил он меня всюду, где только можно было, по снежным ходам сообщения и просто полем, чуть не завязил меня в проволоке «малозаметных препятствий», рассказал, что к чему в системе его оборонного хозяйства, дал произвести очередь из пулемета, выстрелить из противотанковой пушчонки, – конечно, не в связи с появлением танков противника, – словом, занимал гостя чем мог.
Потом с группой его командиров обедали, и солдат носил жареное из другой избы через улицу. Под конец Красников наклонился ко мне за столом с доверительным, как давеча, словом на ухо:
– Пусть разойдутся, а мы еще потом с вами – по капельке.
Мы остались одни, и я попросил его рассказать мне свою историю. Забудьте, мол, что я человек, берущий все на карандаш. Расскажите, если можете, откровенно самую суть дела.
– Суть дела – вот она, – улыбнулся он, с робкой шуткой приподняв запотевший от холодной водки стаканчик. – Вот она, суть.
И он мне рассказал все так, что у меня не было оснований сколько-нибудь усомниться в правдивости его слов.
Он был уже майором, учился на третьем курсе в академии. И вышел из красноармейцев гражданской войны, из батраков, малограмотных. Слабость, на которую он указал, как на суть дела в его судьбе, помешала ему закончить академию. Большое военное лицо, вызвав его однажды к себе в кабинет, сказало:
– Я пьяниц не люблю и у себя не потерплю.
Робкий от своего порока, Красников оробел еще более, и последний испытательный срок, предоставленный ему тем лицом, как будто бы проходил безупречно. И вот он собрался впервые за всю жизнь на курорт с женой, получил отпускные деньги и встретил, конечно, в день сборов к отъезду старого товарища времен гражданской. «Рванули с грохотом», – как выразился он по поводу этой встречи. Дело было в 1937 году. И хотя он хорошо знал, что даже в пьяном виде не мог высказывать каких-либо дурных вещей, но так и пошел со своей виноватой улыбкой в тюрьму, имея скрытое сознание другой безусловной виновности – своей слабости, хотя не она ему вменялась теперь в вину.
В сорок первом году его выпустили. Жизнь была перевернута. Жена, похоже, покинула его. Где-то есть дочурка, о которой он упомянул с нежностью, опять же робкой и виноватой.
Он пошел рядовым в ополчение, но по своим военным знаниям и опыту скоро выделился и при расформировании ополченческой части был взят на пополнение регулярной дивизии. Последовательно замещая выбывавших из строя командиров взвода, роты и, наконец, батальона, он достиг нынешней своей должности. Воюет он хорошо, но томит его некоторая странность его положения рядового на таком посту, где ему подчинены старшие лейтенанты и даже капитаны.
Сказал я ему на прощанье какие-то слова, желая придать ему больше уверенности в себе. Только, мол, берегите хорошее настроение, бодрый дух – все будет хорошо.
– Спасибо, спасибо. Ничего. Как-нибудь, – говорил он, держась за сани и провожая меня до выезда на дорогу. И вдруг, когда я уже порядочно отъехал, крикнул мне вслед с озорной, но все же робкой шутливостью:
– А бодрый дух упадет – мы его приподымем – и все в порядке!
Я оглянулся: он стоял, склонив голову набок, в шинели с пустыми петлицами и правой рукой усиленно делал знак пощелкивания пальцем в шею. Я понял: он не это хотел сказать, но удержался от серьезных слов, отшутился…
Еще мне рассказывала о нем девушка из санитарной роты полка, видевшая Красникова в одном тяжелом бою.
– Ползу среди трупов, среди раненых – от одного к другому – и вдруг вижу, ползет Красников, все лицо в крови, улыбается, перевязываться отказался: и так, мол, доберусь. И еще меня подхваливает: молодец, дочка, цены тебе нет, умница моя. Это он, конечно, для бодрости духа мне сказал, – огонь действительно был очень сильный.
…Мне доставляет большую радость дополнить эту запись спустя восемнадцать лет тем, что в мае 1960 года я вдруг получил письмо от Александра Гавриловича Красникова, о котором со дня нашей последней встречи ничего не знал и, по правде сказать, скорее всего мог бы предположить, что с войны он не вернулся.
«С августа 1942 года, – пишет он, – и до конца 1945-го я командовал полком на Дону, на Северном Донце, а дальше – Днепр и Днепропетровск, Восточная Пруссия, Кенигсберг. Много получил тяжелых ран и в 1945 году ушел в отставку со званием Подполковник».
Написание этого слова А. Г. Красниковым с большой буквы оставляю здесь без исправления: слишком дорого, как видно, оно этому простому и славному русскому человеку, чтобы писать его с маленькой.
Тетя Зоя
Тетя Зоя – владелица едва ли не единственной коровы в городе после немцев. Умная, веселая, продувная и, в сущности, добрая баба подмосковной провинции. Говорлива и остра на язык, как редко может быть говорлива и остра простая деревенская баба. Это свойство именно городской, порядочно обеспеченной и достаточно досужливой женщины, которая полжизни проводит на рынке, в шумном вагоне пригородного поезда, на лавочке у своих или соседних ворот, за самоваром, хотя бы чай был без сахара. Хлопотлива, оборотиста и неунывна в любые тяжкие времена.
Корова – основное и главное в жизни тети Зои и ее близких. Даже появление наше с капитаном, ранее освоившим этот приют на фронтовой дороге, определялось наличием дойной коровы: дочь тети Зои сама по себе вряд ли могла помешать капитану выбрать другой из знакомых ему домов в этом городе.
Корова! Ее прятали от немцев в каком-то сарайчике. Во время бомбежек и обстрелов тетя Зоя переводила ее с места на место, учитывая преимущественное направление огня и степень угрожаемости того или иного уголка. Ради коровы она покидала щель, где остальные домашние, как и все вообще в городе, сидели по суткам, не вылезая. И не то чтоб она не боялась. Боялась, тряслась, бранилась и плакала, укоряя мужа, который, понятно, ничем не мог тут помочь, отчаивалась уже видеть свою кормилицу и любимицу целой после очередного налета – и все-таки вылезала подоить поскорей, покормить или напоить ее. Так и спасла. Мужеству и выдержке тети Зои обязаны все ее домашние тем относительным достатком, который процветал в нынешнее тяжелое время в этом доме. А мы с капитаном обязаны той почти немыслимой благодатью, что сменила вдруг долгие часы под дождем, в грязи, унылые пересадки с одной попутной машины на другую.
Это был дом, где угощают и задабривают не только того, в ком непосредственно заинтересованы – предполагаемого жениха, – но и любого товарища его, кого бы он ни привел в этот дом. Пусть в этом было желание обеспечить благоприятный отзыв о доме, одобрение выбору капитана, – словом, полусознательная корыстность. Таких ночлегов не много случалось за всю войну.
Не только была приготовлена по всем домашним правилам наша солдатская сухопайковая селедка, поставлен самовар, подогреты и заправлены сметаной сладкие ленивые щи и «быстренько разжарена» картошка на сливочном масле, но, когда мы достали свою военторговскую водку, хозяйка была как будто бы даже несколько огорчена.
– А я, Коленька, – так она называла моего товарища, – а я, Коленька, берегла-берегла, на черной смородине. Мой-то уж к ней подбирал ключи, и так и так подбирал, а я – нет и нет. Нет, думаю, а вдруг завернет Коленька, захочет выпить – где ее достанешь, как не будет…
Капитан, сознавая всю великую силу своего влияния в этом доме, вел себя с царственной учтивостью и скромностью: «Тетя Зоя, не беспокойтесь… Не затрудняйте себя, тетя Зоя… Тетя Зоя, прошу вас, пожалуйста…»
Тетя Зоя попробовала нашей, закрасив ее слегка своею, потом выпила одной своей по второму и третьему кругу, и ее пухлое, несколько желтоватое, как булочка, лицо подернулось легкой краской, маленькие, любовно зоркие ко всему и ко всем глаза заблистали счастливой слезинкой.
Она угощала, даже лучше сказать – потчевала гостей и поощряла их собственным примером явной любительницы закусить, свободой поведения за столом, в чем опять же было ее отличие от простой деревенской женщины, от крестьянки, которая, угощая, сама ест мало и стеснительно. Она кушала и приговаривала, точно приправляла еду умелой и легкой, свободно и поворотливо льющейся речью:
– Я ото всех этих пережитков, от этой мороки окаянной аппетит совсем потеряла. Мне чтоб поесть, дай мне покой. А тут тебе бомбежки, тревожки, что ни минута, то, может, последняя твоя в жизни… Уж на что батюшка наш, отец Василий, какой человек, а нет, вижу, шепчет молитву, а сам с лица как вот эта скатерка. «Батюшка, говорю, я сама в бога верую, вы это знаете, – он-то, отец Василий, около меня только и питался, как сирота, – батюшка, говорю, помолились, и будет, полеземте в ямочку да пересидим страсть самую. Не ровен же час…» – «Бог не попустит», – говорит. А я: «Не попустит, не попустит, говорю, а зачем нам его испытывать, господа-то? Когда тут камни да стекла летят, за глупость можно погибнуть». – «А верно твое, говорит, за глупость не стоит. Пострадать – так, мол, с толком пострадать, а так что ж!»