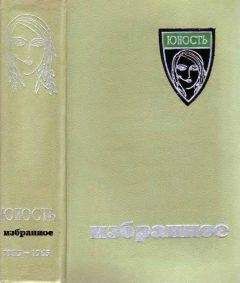Нина Дмитриевна взяла в раздевалке свою плетеную сумочку, в которой лежали хлеб и овощи для завтрашнего борща. В прохладном высоком вестибюле было пусто. Улица дохнула ей в лицо теплым воздухом. Возле давно уже темного газетного киоска стоял Сергей Павлович. Она не удивилась и не испугалась, только сердце вдруг заспешило, словно кинулось ему навстречу, а потом споткнулось, охваченное медленной и долгой болью… Сергей Павлович вовремя поддержал ее, обняв за плечи. Она раскрыла глаза, провела ладонью по лбу, потом они молча шли под тополями вечернего бульвара, листья о чем-то шептали под ветром, и ей приходилось отдыхать на каждой скамейке. Он неумело нес сумку с овощами и хлебом в левой руке, а правой поддерживал ее за плечи и все время молчал. Они долго ждали такси на остановке у Крытого рынка. Перед ними в очереди стояли молодые застенчивые летчики и длинноногие говорливые девушки с модными прическами «конский хвост».
— Я дойду пешком, — вздохнула Нина Дмитриевна, — это со мной часто бывает…
Возле дома на улице Дарвина, прощаясь с ней, Сергей Павлович сказал:
— Вам нужно отдохнуть.
Это она и сама знала.
— Я хотел вам кое-что сказать…
Она быстрым испуганным движением бросила кончики пальцев на его большую, крепкую руку, схватила свою сумочку и пошла в подъезд.
— Завтра… — прошелестел его голос, когда она закрывала за собой тяжелые двери.
Может, это ей почудилось?
Ночью Леля вызвала «Скорую помощь». Растрепанная толстая врачиха, хватаясь рукой за грудь и разевая рот, как рыба на берегу, вломилась в их маленькую комнату и так загромоздила ее своим большим телом, что двум студентам-практикантам с кислородной подушкой и чемоданчиком с медикаментами не хватило в ней места. Они шепотом разговаривали с соседками в коридоре.
— Лежать, лежать и лежать, — похлопывая Нину Дмитриевну по голому плечу, быстро сыпала равнодушные слова врачиха, — лежать десять дней, как минимум, и только тогда вы будете практически здоровы, голубушка.
Она впрыснула Нине Дмитриевне кардиозол с атропином, дала подышать кислородом и, попрощавшись, понесла из комнаты свое большое астматическое тело.
Леля стояла все время с перепуганными глазами и, только когда студенты вынесли кислородную подушку, склонилась над матерью.
— Тебе же ничего, мамочка? Правда, ничего? Ты же не умираешь? — совсем по-детски шептала она, холодея от страха. — Завтра ты не пойдешь на работу. Завтра мы вызовем врача из поликлиники, он выпишет тебе бюллетень…
Завтра она не пойдет на работу. Завтра она будет лежать в постели, положив руки поверх одеяла и прислушиваясь к своему сердцу. Леля побежит в институт и, возвращаясь с лекций, сама принесет хлеб. Овощи есть, соседка купит двести граммов мяса в Крытом рынке и приготовит обед. Завтра она будет отдыхать, и послезавтра, и десять дней подряд… Но ведь он тоже сказал: «Завтра». Завтра вечером она должна с ним встретиться, завтра она все услышит, завтра ждет ее счастье.
Леля склоняется над матерью. Нина Дмитриевна беззвучно шевелит губами, слов нельзя разобрать, глаза закрыты, дыхание выравнивается, она окунается в сон, как в темный колодец, и сразу же раскрывает глаза.
Небо цвета барвинка плывет в квадрате промытого, чистого окна. Леля спит, свернувшись клубочком, в старом кресле. Что это было? Он был тут, рядом с ней, живой, молодой Костя, он стоял возле Лели, легко положив руку на плечо дочке, и глядел умными, немного печальными глазами, словно осуждая ее за то, что она осмелилась искать его юную красоту в поседелом возмужании другого… Нет, он не осуждал, ему было больно и страшно за дочку, что спит одетая в кресле, напуганная неожиданной болезнью матери, ее потускневшими глазами, руками, которые бессильно лежат поверх одеяла, — неутомимые, нежные, мудрые руки матери, рождающие для нее хлеб. Костя стоял молча, потом неожиданно улыбнулся и сказал: «Мне пора на лекции, ты же смотри, Нина, не бросай ребенка одного».
Она проснулась от удара в сердце. В барвинковом небе за окном, как воспоминание, проплыло маленькое полупрозрачное облачко и растаяло, словно потонуло в светлой бездне.
Ничего ей не будет. Врачи? Отдых? Глупости. Сердце выдержит. Надо идти в библиотеку, готовить книги, раскладывать их по столам и ждать вечера: она не сможет жить дальше, не услышав тех слов, которые должен сказать ей Сергей Павлович… Нина Дмитриевна медленно оделась, приготовила завтрак и разбудила Лелю. У девушки засветились глаза: мать ходит, ее неутомимые руки не лежат бессильно, а привычно и умело нарезают хлеб и намазывают его желтоватым слоем масла, как каждый день, как много дней и лет по утрам… Они вдвоем вышли из дому. Люди спешили на работу. Возле Крытого рынка с машин сгружали розово-белые воловьи туши, овощи, колхозницы гремели бидонами. Леля что-то щебетала. Нина Дмитриевна ничего не замечала и не слышала.
Первой, кого она встретила в библиотеке, была Зоя Семиренко: она выздоровела и вернулась в читальный зал. Нина Дмитриевна похолодела от неожиданной тоски. Зоя искренне поцеловала ее. Она была худенькая и хорошенькая, как ласточка, после болезни глаза ее особенно ярко блестели, да разве и была она в чем виновата? Нина Дмитриевна передала ей работу по читальному залу и пошла в свой закоулок, в неприветливое, всегда холодное книгохранилище, где между стеллажами проходили ее годы.
День был долгий, она успела все взвесить. Хорошо, что Зоя вернулась на работу именно сегодня. Хорошо, что пришлось уйти из читального зала, — так будет легче забыть…
Работы было много… Вечером Нина Дмитриевна вышла из библиотеки через черный ход и прошла сумеречным парком, где на аллеях молча прижимались друг к другу влюбленные.
Ночью ее забрала «Скорая помощь». Полтора месяца пролежала она в больнице. А когда вернулась в библиотеку, Зоя Семиренко сказала ей, что седой биолог дважды спрашивал про нее, а потом перестал ходить в читальный зал, возможно, окончил свою диссертацию, а может, куда-то уехал…
«Вот и хорошо», — вздохнула с облегчением Нина Дмитриевна, вспомнив почему-то Аникеевну и ее письмо: «Своего счастья никому не отдавай, но вдовой жить лучше, чем за чертом…» Кто знает, чем это могло стать? Чем это было? И было ли что-нибудь? Может, живя потаенной надеждой на счастье, она слишком легко и доверчиво откликнулась на еле уловимое движение чужого сердца, которое билось не для нее, может, она сама в мыслях спряла ту незримую нитку близости, что, казалось, уже соединяла их… Бывают же ошибки, тем более что они никогда и не разговаривали, и она не может ничего знать о нем, о его мыслях, не может думать, что он обманул ее надежды. А сама себя обманывать она не хочет, не будет: уже прошел тот возраст, когда можно жить выдуманным счастьем, надо прислать боль, приглушить ее — три капли валидола на кусочек сахара хорошо помогают в таких случаях.
Улыбаясь, Нина Дмитриевна осторожно вытерла уголком платочка глаза, чтобы не покраснели веки, и медленно пошла вдоль длинной стены стеллажей отыскивать нужные абонентам книжки…
…Калерия Ивановна вызвала ее к себе в кабинет и, поджимая тонкие синие губы, сказала коротко и резко, будто пряча доброе сердце за хрупкой скорлупой своей постоянной сухости и резкости:
— Вы идете в отпуск. Не хотите в санаторий, просто отдохните. Почему бы вам не поехать по Днепру? Подумайте, я подписываю приказ.
Нина Дмитриевна ухватилась за эту мысль — вниз по Днепру. Леля давно мечтала об этом путешествии. Вечером они уже вслух мечтали о белом пароходе. Через неделю кончается экзаменационная сессия у Лели.
Сезон только начинается. Пассажиров еще совсем мало. Они возьмут каюту первого класса.
— Мама, я хотела бы сшить себе широкую цветастую юбку и купить белую прозрачную блузку…
— Ну что ж, это можно, только тогда придется брать второй класс.
— А чем плохо во втором классе? Там четырехместные каюты, познакомимся с попутчиками, будет веселее. И в конце концов это только на ночь, а днем все время на воздухе, на палубе…
Леля обегала все магазины, выбирая цветастый материал на юбочку; прозрачную блузку не так легко было найти; зато в справочном бюро на речном вокзале она все разузнала: и какие пароходы ходят до Херсона, и где останавливаются, и сколько стоят на Днепрогэсе и в Новой Каховке… Нина Дмитриевна принесла из библиотеки карту, они разыскивали на ней пристани… Жаль, что в Каневе пароход так мало стоит, нельзя будет сходить на Тарасову гору, а так хотелось бы… Ну, ничего, они посмотрят с парохода или сделают, если можно, остановку на сутки. Там, кажется, есть гостиница… Нет, гостиница сгорела во время войны, ее до сих пор не отстроили. Ну, да они найдут, где переночевать…
— А правда, мама, мне чудесный материал попался, и такой дешевый! Можно будет купить еще красные бусы, длинную нитку, как теперь носят, — на Крещатике есть в магазине…