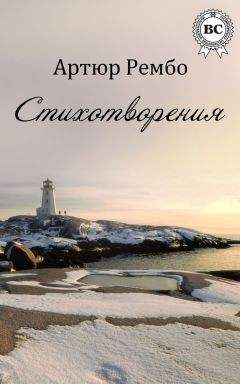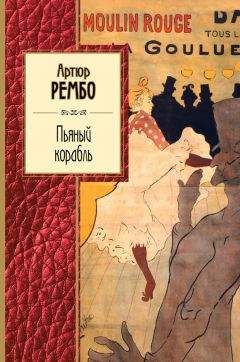Рембо показывает и перспективы, и бесперспективность своего времени (если рассматривать его в рамках буржуазного развития), жизненные искушения, подстерегавшие людей его эпохи, но яркость изображения отнюдь не подразумевает автоматического одобрения разворачиваемых панорам.
Ключом может быть повторение идеи солидарности угнетенных - "чудесного милосердия на этом свете", встречающееся в главке и связывающее "Одно лето в аду" с "Парижской оргией", с одной стороны, и с гуманистическим пафосом будущей поэзии Сопротивления - с другой. Мы уже поясняли, что слово "шаритэ" на языке Рембо не обязательно означает "милосердие", но скорее нечто вроде понятия "социальная солидарность", "единство чувств угнетенных" (и по-др. гр. "харис" могло обозначать взаимное дружеское расположение). В таком же качестве слово "шаритэ" появляется и ниже в "Одном лете в аду", в частности в том месте книги, где поэт говорит о своих поисках способов "изменить жизнь".
После слов о "шаритэ на этом свете" построение главки меняется: она будто рассказывает в прямой последовательности преимущественно историю бед Рембо.
Некоторые выражения нуждаются в пояснении.
"De profundis Domine..." - начало католической заупокойной молитвы ("Из бездны взываю к Тебе, Господи..."); это показывает, что герой все еще мыслит себя в бездне, в аду.
"Каторжник" - вероятно, Жан Вальжан из романа Гюго "Отверженные" (1862). Книга была новинкой в детские годы Рембо.
"Грязь в городах начинала казаться мне красной и черной..." - эти слова Буйан де Лакот связывал с впечатлением от пожаров последних дней Коммуны. Сюзанна Бернар основательнее усматривает в этих строках галлюцинирующее воздействие огней гигантского города-спрута, по-видимому Лондона. Почти на век раньше лондонские фонари произвели неизгладимое впечатление на Карамзина.
Если проследить мысль Рембо дальше, то покажется, будто он унижается, отнеся себя к числу детей Хама, не поднявшихся до света христианства. Но этo "унижение" не надо понимать буквально: оно включает и сравнение поэта с Жанной д'Арк, и противопоставление себя как "подлинного", трудящегося негра ложным неграм.
Слова: "Я из породы тех, кто поет во время казни" - вошли в героическую эмблематику французского Сопротивления и стали темой стихотворения Арагона "Баллада о том, кто пел во время казни" (сб. "Французская заря").
К ключевой идее земного братства поэт возвращается в словах, обращенных к богу: "Вы избрали меня среди потерпевших кораблекрушение; но те, кто остался, разве они не мои друзья? Спасите их!". Здесь уже можно различить интонации Элюара.
Вопрос спасения, в том числе вечного спасения, Рембо ставит таким образом, что взрывает любое догматическое богословие, любую догматическую философию. Ему нужно нечто, ненавистное всем фанатикам, нечто, достойное величайших умов Ренессанса, - свобода в выборе путей спасения.
Рембо понимает, что такое пожелание равносильно призыву: "Огонь на меня!", и с некоторым сарказмом заключает главку заявлением, что он и выбрал на французский манер путь славной гибели - "дорогу чести".
Неизданный перевод Н. Г. Яковлевой:
"От предков - галлов у меня голубые глаза, ограниченный ум и неуклюжесть в борьбе. Я нахожу свою одежду варварской, подобно их одежде. Но я не умащиваю волосы маслом.
Галлы были самые нелепые по тому времени живодеры, поджигатели трав.
От них у меня: идолопоклонство и любовь к кощунству; - о! все пороки, гнев, сладострастие, - великолепное сладострастие; - особенно лживость и лень.
Мне ненавистны все ремесла. Хозяин и батрак, крестьянин - омерзительны. Рука с пером стоит руки на плуге. Век ремесла! Я никогда не буду ремесленником. И холопство заводит слишком далеко. Мне претит честная бедность. Преступник мерзок, как скопец: а я безупречен, мне все равно.
Но кто наделил мой язык таким коварством, что он мог до нынешнего дня направлять и оберегать мою лень? Я не извлекал пользы из своего тела. Я скитался, праздностью превзойдя жабу. В Европе нет семьи, которой я бы не знал. Я говорю о семьях, подобно моей, наследовавших все от декларации Прав Человека. Я знал в этих семьях каждого первенца!
Если бы мой род чем-либо был отмечен в истории Франции!
Но нет, ничем.
Я знаю, я всегда принадлежал к низшей расе. Мне непонятен мятеж. Мое племя восстает лишь для того, чтобы грабить: так поступают волки с животным, не растерзанным насмерть.
Я вспоминаю историю Франции, старшей дочери церкви. Смерд, я совершил путешествие в святую землю; мне памятны дороги в долинах Швабии, пейзажи Византии, укрепления Иерусалима: культ Марии, умиление перед распятым пробуждается во мне среди тысячи суетных видений. Прокаженный, я сижу на черепках и крапиве у подножия стены, изглоданной солнцем. - Позже, наемник, я раскинусь станом ночью, в Германии.
А-а! Еще! Среди красной прогалины я пляшу на шабаше со старухами и детьми.
Из прошлого я помню лишь эту землю и христианство. Я всегда буду возвращаться в это прошлое. Но всегда один, без семьи; и на каком языке я говорил? Я не вижу себя ни в советах Христа, ни в советах старейшин наместников Христовых.
Кем был я в прошлом веке: я снова вижу себя лишь сегодня. Нет бродяг, нет смутных войн. Низшая раса - народ, как говорят, все вытеснила: она - и нация, и разум, и наука.
Наука! Она за все взялась. Для тела и для души, - святые дары, существуют медицина и философия, - домашние средства и сборники народных песенок. И увеселения владык, и запретные забавы!.. География, космография, механика, химия!
Наука, новая каста! Прогресс! Мир движется вперед! Почему бы ему не вернуться обратно?
Это видение чисел. Мы идем к Разуму. То, что я говорю, - истина, пророчество. Я все понимаю, но, не умея объяснить без помощи языческих слов, предпочитаю молчать.
----
Языческая кровь просыпается! Разум близок; отчего Христос не поможет мне, открыв моей душе достоинство и освобождение? Увы, Евангелие отжило! Евангелие! Евангелие!
Я жду бога с вожделением. Я принадлежу к низшей расе, на веки веков.
Вот я на побережье Арморики. Пусть города загораются вечером. Мой день кончен, я покидаю Европу. Морской воздух обожжет мои легкие; отдаленные страны опалят мое тело. Плавать, мять траву, охотиться особенно курить; пить напитки, терпкие, как расплавленный металл, - как это делали любезные предки вокруг огней.
Я вернусь с железными мускулами, смуглой кожей, неистовым взглядом; по моему обличью решат, что я человек сильной расы. У меня будет золото: я буду праздным и жестоким. Женщины окружат заботой кровожадных калек, вернувшихся из жарких стран. Сочтут, что я был замешан в политические события. Спасся.
Теперь я отверженный. Я ненавижу родину. Вся отрада - пьяный сон на берегу.
----
Не уехать. - Снова пойдем здешними дорогами, под бременем порока порока, что еще в юности пустил во мне свои мучительные корни, что вздымается к небу, истязает меня, опрокидывает, волочит за собой.
Предельное простодушие и предельная скромность. Сказано. Не надо разносить по свету мои ненависти и мои измены.
В путь! Дорога, пустыня, бремя, уныние, гнев.
Чему себя посвятить? Какому животному поклониться? На чей святой образ посягнуть? Какие сердца разбить? Какому обольщению остаться верным? Через какую кровь переступить?
Лучше уберечься от правосудия. Жизнь жестока, оцепенение просто, поднять иссохшей рукой крышку гроба, сесть, задохнуться. И дальше ни старости, ни опасности: ужас не для француза.
- Ах! я так заброшен, что предлагаю любому святому образу свои порывы к совершенству.
О, мое самоотречение, о, моя божественная доброта! и все же я на земле!
De profundis Domine. Как я глуп!
----
Еще совсем ребенком я восхищался строптивым каторжником, вечно попадавшим на каторгу; я посещал постоялые дворы и мансарды, которые он освятил своим пребыванием; _я видел его глазами_ цветущий труд в деревне; я угадывал его судьбу в городах. Стойкости у него было больше, чем у святого; здравого смысла больше, чем у путешественников, - и он, он один! был свидетелем своей славы и мудрости.
На дорогах - зимними ночами, без крова, без одежды, без хлеба - один голос волнует мое оледенелое сердце: "Бессилие или сила: ты, вот - это сила. Ты не знаешь, куда ты идешь, зачем ты идешь, входишь всюду, отвечаешь на все. Убить тебя - все равно что убить труп". Утром мой взгляд был таким пустым, облик таким мертвым, что те, кого я встречал, _меня, может быть, не видели_.
В городах грязь мне вдруг казалась красной и черной, как отраженье в зеркале, когда в соседней комнате проносят лампу, как алмаз в лесу! Добрый час, кричал я и видел в небе море огня и дыма; и справа, и слева - все сокровища, сверкающие подобно миллиарду гроз.
Но оргии и дружба женщин мне были запрещены. Не было даже товарища. Я видел: перед исступленной толпой, перед палачами я оплакиваю горе, которого они не могли бы понять; я их прощаю! - Как Жанна д'Арк! "Духовники, ученые, учители, вы заблуждаетесь, предавая меня правосудию. Я никогда не был с этим народом; я никогда не был христианином; я из тех, кто поет под пыткой; я не понимаю законов; у меня нет чувства нравственности, я тварь: вы заблуждаетесь".