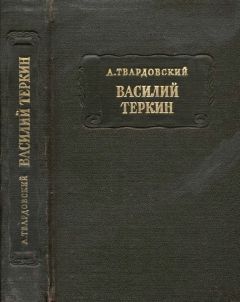Дующий с моря неласковый, сырой ветер прорывался в улицы, обволакивал какой-то суровой, неприветливой мглой громоздкие каменные стены королевского дворца, окаймленного глубоководными заливами. Жирные, разъевшиеся на городских отбросах чайки тяжело кувыркались перед окнами угрюмого дворца, где живет, говорят, сейчас только шестидесятивосьмилетний кронпринц – девяностотрехлетний король отдыхает где-то во Франции.
Прогуливаясь, мы обошли дворец с тыльной стороны и попали в ворота просторного круглого двора, вымощенного крупным булыжником и заставленного старинными пушками, ровесницами, по крайней мере, тех, что Карл XII оставил у нас под Полтавой.
Был час развода дворцового караула. Эта церемония заняла несколько минут и представила для нас не лишенное занятности зрелище. По команде державшего руки за спиной офицера с брюшком, свисающим через ремень, около взвода немолодых, тяжеловатых мужчин в современной шведской военной форме с необычной, истовой напряженностью исполняли несколько причудливых артикулов с ружьями и строго рассчитанных переходов с места на место. Потом половина солдат, размахивая ружьями с примкнутыми штыками в правой руке, строем направилась в сторону дворцовых входов, а другая вдруг бегом, в беспорядке, бросилась в противоположном направлении, к низким, угрюмым помещениям внутри двора, должно быть казармам. А эхо короткой заунывной команды, казалось, еще громыхало, перекатывалось в огражденном старинными каменными стенами дворе. Говорят, что эта церемония в особо торжественные дни проводится в старинном воинском снаряжении, чуть ли не в железных шлемах и панцирях, и ружья тогда заменяются тяжеленными алебардами. И говорят, что стоимость этих, поистине невинных забав, содержание дворцовой стражи и многочисленной королевской челяди составляет серьезную сумму расходов в бюджете такой маленькой страны, как Швеция.
Вечер второго дня майских праздников застал нас в поезде, который к утру должен был прибыть в Осло. Оставалось залечь спать, и спать крепким доверчивым к чужестранной подушке сном, без особой тревоги от обычной в путешествии мысли, что вот спишь, проезжая места, которых никогда не видел и скорее всего никогда уже не увидишь в жизни…
За окном в утреннем свете проходили леса, вспаханные делянки полей, станционные домики, миниатюрные, в одну улицу, городишки, примыкавшие к станциям и носившие названия станций, городишки, где главным зданием в ряду маленьких, тесно прижимающихся друг к другу, опрятных домиков всегда выступает аптека.
Все чаще и чаще стали поблескивать небольшие лесные озера и под колесами коротко погрохатывать мосты над озерными протоками или речками. Это была Норвегия, та самая, которую мы сегодня видели уже не из окна вагона, а из автомашины.
Но все знакомое в обличье страны – ельники вперемежку с белоствольными березками, зеленеющие подлески из осинника, рябинок, изредка липок, – все это, казалось бы внушавшее ощущение недальности родной земли, как раз почему-то внушало противоположное ощущение.
Я вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Забайкалье и на Дальний Восток – расстояние от Москвы раз в десять дальше, чем до Норвегии. Но отсюда Москва, Чита, Хабаровск и Комсомольск уже не представлялись такими удаленными друг от друга – они все были там вместе и все одинаково далеки, страшно далеки от нас, заехавших, казалось бы, не бог весть в какие заграницы.
…Проехав километров шестьдесят, мы спустились к фиорду. Это и был Тюре-фиорд с маленьким островком посредине, на котором располагался отель, один из множества подобных отелей в стране, где значительная часть населения разного достатка живет на заработок от иностранных туристов. Дорога свернула на дамбу, которая связывала островок с нашим и противоположным берегом.
Художник прошел в ресторан отеля, чтобы заказать на нашу компанию обед к тому часу, когда мы будем ехать обратно с хутора, что был уже невдалеке отсюда. Грешным делом, нам показалось несколько странным, что человек, отправляясь в гости к родственнику, заказывает обед в ресторане, но у каждой страны свои обычаи, свои понятия гостеприимства. К тому же мы не знали, в каком достатке живет родственник художника.
Вода фиорда подходила к самому фундаменту отеля, построенного на манер старинного замка, с цокольным этажом из могучих, необтесанных гранитных глыб. Задний дворик был выстлан плитками природного шифера до самой воды. Из таких же плит были сооружены столики и скамьи возле них. По кромке берега росли высаженные здесь ирисы. Как везде, где нам пришлось побывать, в этой опрятной, трудолюбивой стране, озабоченной удовлетворением вкусов праздных приезжих, здесь во всем обнаруживалось стремление сочетать экзотическую, суровую дикость природы с удобствами и комфортом современного города. Суровую дикость скал над узким ущельем, наполненным морской синей водой, можно было созерцать, сидя в шезлонге на солнышке или под тентом в этом дворике, а в случае непогоды – из окна ресторана или сверху из уютной глубины жилых комнат отеля.
Когда машина выехала с дамбы на берег фиорда, вскоре справа от дороги загрохотала белая от пены горная речка, впадающая в фиорд. Она несла весенние воды с гор, где весна еще была в периоде таяния снегов, и со страшной силой билась в берега, в бетонные дамбы, защищавшие их на иных поворотах, обрушивалась на волнорезы с гребнем из рельсовых балок. По реке шел лесосплав, какой называется у нас молевым: бревна неслись не связанными в плоты, а врозь, врассыпную, «молью». Их било, вертело, ставило на попа, сталкивало одно с другим, притирало к глыбистым каменным берегам, швыряло так и сяк, – казалось, до места назначения могут дойти одни щепки да переломанные, избитые, измочаленные чурки вместо этих гладких, окоренных в лесу, золотистых сосновых и еловых бревен. Однако наш спутник разъяснил, что бревна отлично доходят этой своей дорогой до места и там по отметке, которую ставит лесоруб на каждом бревне особым инструментом, их разбирают, подсчитывают и определяют выработку того или иного рабочего.
Река ревела, пела, шумела весенним шумом, в нее сбегали по-весеннему поющие мелкие ручьи и потоки с гор, и вся эта музыка так живо напомнила мне такую далекую от Москвы, а отсюда далекую одинаково с Москвой бурную Ингоду в Забайкалье, которую я видел золотой осенью прошлого года. Было солнечно и свежо, мы с товарищем, уроженцем тех мест, сидели на берегу Ингоды, прибивавшей к противоположному, правому, скалистому берегу свои невысокие, но сильные, светлые воды, и, закрыв глаза, можно было по звукам журчанья, курлыканья и шума воды представить себе весну, которой я никогда не видел на этой реке. Это особенность горных рек: их многоголосость от ледохода до ледостава несет в себе влекущее и трогательное весеннее звучание. И как за музыкой музыку я вспомнил теперь, по дороге к норвежскому хутору, что тогда, у Ингоды, под ее пение, я вспоминал гулкие в ущельях и раскатистые в долинах, обжигающе холодные реки далекой южной страны Албании, где побывал за год перед тем, в августе – месяце жестоких боев в соседней Греции, в районе горы Граммос. Там, на берегу одной из рек, берущих начало в Греции, о которых албанцы говорили, что их воды окрашены человеческой кровью, я слышал на расстоянии десяти-двенадцати километров грохот боев – горькое и гнетущее напоминание отгремевшей войны…
И еще подумалось: где бы ты ни побывал, какие бы страны и земли ни повидал – разве что за исключением тропических, – везде ты отметишь, что все это мог бы повидать и у себя на родине: так она велика, разнообразна и богата всем тем, чем может быть прекрасна земля на радость человеку.
Бесшумно прошел под колесами машины старинный, монолитный, точно вырубленный в скале, мост, из-под которого рвалась вода притока реки, гремевшей справа, и машина свернула с асфальтового шоссе через железнодорожный переезд на узкий проселок, мощенный кремнистой щебенкой. У переезда, на крошечной деревянной платформе, стояла открытая со стороны путей будка, вроде тех, что когда-то у нас стояли в провинциальных городах на трамвайных остановках: трамваев было мало, спешить особенно некуда было – посиди на скамеечке под односкатной крышей, подожди. Здесь пассажиры в количестве хотя бы одного человека ожидают поезда, который останавливается у таких платформочек по требованию. Поезда в Норвегии игрушечные, составом в три-четыре вагона; некоторые железные дороги находятся в частном владении. Все мелкие путевые наблюдения на первых порах очень занимают: видишь совсем иной, чем наш, мир – мир маленькой буржуазной страны с чертами чего-то отжившего, провинциального, о чем наше поколение имеет представление главным образом по книгам да понаслышке от старых людей.
Показалась белая каменная стена большого сарая с подъездным каменным мостом-эстакадой к воротам в одном из фронтонов, где полагается быть сеновалу, и белые наличники окон небольшого домика, обшитого тесом и окрашенного в темно-брусничный цвет. Это была усадьба хутора, куда мы держали путь и где я впервые услышал некую часть одной истории, очень взволновавшей меня на все время пребывания в Норвегии.