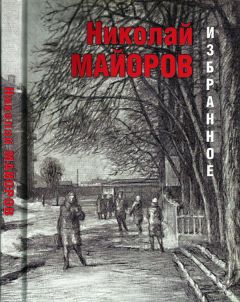1937
Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щёк. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.
В нём не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с жёлтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком.
Был стол в далёкий угол отодвинут.
Жандарм из печки выгребал золу.
Солдат худые, сгорбленные спины
Свет заслонили разом. На полу —
Ничком отец. На выцветшей иконе
Какой-то бог нахмурил важно бровь.
Отец привстал, держась за подоконник,
И выплюнул багровый зуб в ладони,
И в тех ладонях застеклилась кровь.
Так начиналось детство…
Падая, рыдая,
Как птица, билась мать.
И, наконец,
Запомнилось, как тают, пропадают
В дверях жандарм, солдаты и отец…
А дальше — путь сплошным туманом застлан.
Запомнил: только плыли облака,
И пахло деревянным маслом
От жёлтого, как лето, косяка.
Ужасно жгло. Пробило всё навылет
Жарой и ливнем. Щедро падал свет.
Потом войну кому-то объявили,
А вот кому — запамятовал дед.
Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами.
Глаза мои обращены на всех.
1938
Он делал стулья и столы
и, умирать уже готовясь,
купил свечу, постлал полы,
гроб сколотил себе на совесть.
Свечу поставив на киот,
он лёг поблизости с корытом
и отошёл. А чёрный рот
так и остался незакрытым.
И два громадных кулака
легли на грудь. И тесно было
в избёнке низенькой, пока
его прямое тело стыло.[14]
1939
(На просмотре фильма «Детство Горького»)
Тот дом, что смотрит исподлобья
В сплетенье жёлтых косяков,
Где люди верят лишь в снадобья,
В костлявых ведьм да колдунов,
Где, уставая от наитий,
Когда дом в дрёму погружён,
День начинают с чаепитий,
Кончают дракой и ножом;
Где дети старятся до срока,
Где только ноют да скорбят,
Где старики сидят у окон
И долго смотрят на закат,
Где всё вне времени и места,
Где лишь кулак имеет вес,
Где перезревшие невесты
Давно уж вышли из невест.
Где всё на правду не похоже
И что ни делают — всё злость!
Где с первобытным рвеньем гложут
Нужды заплёванную кость,
Где ближний ближнего обмерит,
Где счастлив тот лишь, кто в гробу,
И где уже никто не верит
Ни в ложь,
ни в правду,
ни в судьбу,
Где возведён в закон обычай
Ничтожной горсточкой задир,
Где каждый прав и пальцем тычет,
Что он плюёт на здешний мир,
Где нищету сдавили стены,
Где люди треплют языком,
Что им и море по колено,
Когда карман набит битком,
И где лабазник пьёт, не тужит,
Вещает миру он всему,
Что он дотоле с богом дружит,
Пока тот милостив к нему,
Где, как в игрушку, в жизнь играют,
Обставив скаредный уют,
Где детям петь не позволяют
И небо видеть не дают,
Где людям не во что одеться,
Где за душой — одни портки,
Где старики впадают в детство,
А дети метят в старики, —
Пусть я хотел, хотел до боли
Пересказать всё чередом,
Я не сказал и сотой доли
Того, чем славен этот дом.
Его я видел на экране,
Он в сквозняке, он весь продрог.
Тот дом один стоит на грани,
На перекрёстке двух эпох.
1938
Косых полатей смрад и вонь.
Икона в грязной серой раме.
И средь игрушек детский конь
С распоротыми боками.
Гвоздей ворованных полсвязки.
Перила скользкие. В углу
Оглохший дед. За полночь — сказки.
И кот, уснувший на полу.
Крыльцо, запачканное охрой.
И морды чалых лошадей.
Зашитый бредень. Берег мокрый.
С травой сцепившийся репей.
На частоколе чёрный ворон,
И грядка в сорной лебеде.
Река за хатою у бора,
Лопух, распластанный в воде.
Купанье — и попытка спеться.
На берегу сухая дрожь.
Девчонка, от которой ждёшь
Улыбки, сказанной от сердца.
…Всё это шло, теснилось в память,
Врывалось в жизнь мою, пока
Я не поймал в оконной раме
В тенётах крепких паука.
О, мне давно дошло до слуха:
В углу, прокисшем и глухом,
В единоборстве билась муха
С большим мохнатым пауком.
И понял я, что век от века,
Не вняв глухому зову мук,
Сосал, впиваясь в человека,
Огромный холеный паук.
И я тогда, давясь от злобы,
Забыв, что ветер гнал весну,
Клялся, упёршись в стенку гроба,
В котором отчим мой уснул.
Клялся полатями косыми,
Страданьем лет его глухих,
Отмщеньем, предками босыми,
Судьбой обиженного сына,
Уродством родичей своих, —
Что за судьбу, за ветошь бедствий
Спрошу я много у врага!
Так шло, врывалось в память детство,
Оборванное донага.[15]
1939
«Моя земля — одна моя планета…»
Моя земля — одна моя планета,
Она живёт среди ночей и звёзд.
Мне говорят, что путь бойца-поэта
В её ночах не очень будет прост.
Но я иду.
1938
Д. Цуп. Поле осенью
«Не надо слов. Их много здесь говорено…»
Не надо слов. Их много здесь говорено —
Всё перебрали, оценили здесь.
Ведь жизнь останется навеки
неповторенной,
Короткой,
как оборванная песнь.
1938
Всего неделю лишь назад
Он делал в клинике доклад.
Он сел за стол напротив нас,
Потом спросил: «Который час?»
Заговорив, шёл напролом,
И стало тесно за столом.
И каждый понял, почему
Так тесно в воздухе ему.
И то ли сон, горячка то ль,
Но мы забыли вдруг про боль.
Понять нельзя и одолеть,
Как можно в этот день болеть.
Врачи забыли про больных,
И сёстры зря искали их.
Иод засох и на столе
Лежал как память о земле,
Где людям, вышедшим на смерть,
Хоть раз в году дано болеть.
Докладчик кончил. И потом
Он раны нам схватил бинтом,
Он проводил нас до палат.
Ушёл. И вот — пришёл назад.
И врач склонился над столом,
Над ним — с поломанным крылом.
И было ясно, что ему
Теперь лекарства ни к чему.
И было тихо. Он лежал
И никому не возражал.
Был день, как он, и тих, и прост,
И жаль, что нету в небе звёзд.
И в первый раз спокойный врач
Не мог сказать сестре: «Не плачь».
1938
В шершавом, вкривь надписанном конверте
Ему доставлен приговор, и он
Искал слова, вещавшие о смерти,
К которой был приговорён.
Пришли исполнить тот приказ,
А он ещё читал,
И еле-еле
Скупые строчки мимо глаз,
Как журавли, цепочками летели.
Он не дошёл ещё до запятой,
А почему-то взоры соскользали
Со строчки той, до крайности крутой,
В которой смерть его определяли.
Как можно мыслью вдаль не унестись,
Когда глаза, цепляяся за жизнь,
Встречают только вскинутое дуло.
Но он решил, что это пустяки,
И, будто позабыв уже о смерти,
Не дочитав томительной строки,
Полюбовался краской на конверте
И, встав во весь огромный рост,
Прошёл, где сосны тихо дремлют.
В ту ночь он не увидел звёзд:
Они не проникали в землю.
1938