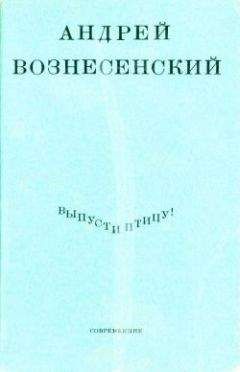Ознакомительная версия.
Ж.-П. Сартру
во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий
свистит в свирель!
а весной
мне снится
что я – восьмой!
1962ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ФАКЕЛЫ
З. Богуславской
Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.
Я знаю их, я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске.
Спит Баптистерий – как развитие
моих проектов вытрезвителя.
Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади.
Ты калька с юности, Флоренция!
Брожу по прошлому!
Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.
Они взирают в интерьерах,
меж вьющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глазея.
А факелы над чёрным Арно
невыносимы —
как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!
– Ау! – зовут мои обеты,
– Ау! – забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
– Ау! – сбегаются палаццо,
авансы юности опасны —
попался?!
И между ними мальчик странный,
ещё не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой, —
здравствуй!
Он говорит: «Вас не поймёшь,
преуспевающий пай-мальчик!
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.
Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?!»
Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью…
Сажусь в машину. Дверцы мокры,
Флоренция летит назад.
И, как червонные семёрки,
палаццо в факелах горят.
1962ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАРАЖ
Б. Ахмадулиной
Пол – мозаика,
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.
Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчихи.
Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».
Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.
Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?
Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана?…
Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.
Что он бодрствует? Завтра – Святки.
Завтра он разобьётся всмятку!
Апельсины, аплодисменты…
Расшибающиеся —
бессмертны!
Мы родились – не выживать,
а спидометры выжимать!..
Алый, конченный, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль…
1962BОЗBРАЩЕНИЕ B СИГУЛДУ
Отшельничаю, берложу,
отлёживаюсь в берёзах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,
отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стрёме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,
мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,
как странны нам те придурки,
далёкие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая всё это дурость!
А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивает, как косточка
просвечивает сквозь сливу,
мы тоже в леса обмакнуты,
мы зёрна в зелёной мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шорохи,
как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растают,
умаялась бегать по лесу,
вздремнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впиталась, как в промокашку,
я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твоё лицо,
как лёгкое озерцо,
как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,
но снова, как разминированная, —
спасённая? спасительная!
ты младше меня? старше!
на липы, глаза застлавшие,
наука твоя вековая
ауканья, кукованья,
как утра хрустальны летние,
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трёхлетняя
писает по биссектриске!
«Мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»,
я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,
в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,
и это круговращение
щемяще, как возвращение…
Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед улетает Сигулда,
как связка
зелёных
шаров!
1963ЛАТЫШСКИЙ ЭСКИЗ
Невесть зачем из отчих мест
три парня подались на Запад.
Их кто-то выдаёт. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идёт! Десять лет.
«Возлюбленный, когда же вернёшься?!
четыре тыщи дней – как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя всё нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой —
ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрьм приходят иногда,
из заграницы – никогда…»
…Он бьёт её, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.
О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»
1963ДЛИНОНОГО
Это было на взморье синем —
в Териоках ли? в Ориноко? —
она юное имя носила —
Длиноного!
Выходила – походка лёгкая,
а погодка такая лётная!
От земли, как в стволах соки,
по ногам
подымаются
токи,
ноги праздничные гудят —
танцевать,
танцевать хотят!
Ноги! Дьяволы элегантные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснёшь – ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.
Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.
Побледневшая, сокрушённая,
Вместо водки даёшь крюшоны —
Под прилавком сто дьяволят
танцевать,
танцевать хотят!
«Танцы-шманцы?! – сопит завмаг. —
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длиноного
философского монолога.
Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!
Ну, а ноги несут сами —
к босанове несут, к самбе!
Он – приезжий. Чудной, как цуцик.
«Потанцуем?»
Ноги, ноги, такие умные!
Ну а ночи – такие лунные!
Длиноного, побойся Бога,
сумасшедшая Длиноного!
А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается обхватив,
под насвистывающий мотив…
Что с тобой, моя Длиноного?…
1963* * *
Э. Межелайтису
Жизнь моя кочевая
стала моей планидой…
Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.
Стонет в сетях капроновых,
в облаке пуха, крика
крыльями трёхметровыми
узкая журавлиха!
Вспыхивает разгневанной
пленницею, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.
К ней подбегут биологи!
«Цаце надеть брелоки!»
Бережно, не калеча,
цап – и вонзят колечко.
Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,
над анкарами, плевнами,
лунатиками в кальсонах —
вольная, то есть пленная,
чистая – окольцованная,
жалуется над безднами
участь её двойная:
на небесах – земная,
а на земле – небесная,
над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,
как бы ты не металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит.
С неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбачьей.
1963* * *
Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!
Шарф мой – Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,
шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шофёров дуют в Монако!
Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?
Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?
Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась…
В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.
1963МАРШЕ О ПЮС. ПАРИЖСКАЯ ТОЛКУЧКА ДРЕBНОСТЕЙ
1Продай меня, Марше О Пюс,
упьюсь
этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам —
как слонихи по лесам!..
Перстни, красные от ржави,
чьи вы перси отражали?
Как скорлупка, сброшен панцирь,
чей картуш?
Вещи – отпечатки пальцев,
вещи – отпечатки душ,
черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!
Расшатавшийся диван,
куда девах своих девал?
Почём века в часах песочных?
Чья замша стёрлась от пощёчин?
Продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.
Печаль моя, Марше О Пюс,
как плющ,
вьётся плесень по кирасам,
гвоздь сквозь плюш повылезал —
как в скульптурной у Пикассо —
железяк,
железяк!
Помню, он, в штанах расшитых,
вещи связывал в века,
глаз вращался, как подшипник,
у виска,
у виска!
(Он – испанец, весь как рана,
к нему раз пришли от Франко,
он сказал: «Портрет? Могу!
Пусть пришлёт свою башку»!)
Я читал ему, подрагивая,
эхо ухает,
как хор,
персонажи из подрамников
вылазят в коридор,
век пещерный, век атомный,
душ разрезы анатомные,
вертикальны и косы,
как песочные часы,
снег заносит апельсины,
пляж, фигурки на горах,
мы – песчинки,
мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах…
Марше О Пюс, Марше О Пюс,
никого не дозовусь.
Пустынны вещи и страшны,
как после атомной войны.
Я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,
архангел из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,
тогда, О Пюс, к себе пусти меня,
приткнусь немодным пиджачком…
Я архаичен, как в пустыне
раскопанный ракетодром.
1963МОНОЛОГ МЭРИЛИН МОНРО
Я Мэрилин, Мэрилин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,
невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!
Продажи. Рожи. Шеф ржёт, как мерин
(я помню Мэрилин.
Её глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звёзд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мэрилин,
её любили…
Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно – невыносимей!
Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее – углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье – самоубийство,
самоубийство – бороться с дрянью,
самоубийство – мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив – невыносимей,
мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актёрам,
жить не с потомками,
а режиссёры – одни подонки,
мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,
ах, мамы, мамы, зачем рождают?
Ведь знала мама – меня раздавят,
о, кинозвёздное оледененье,
нам невозможно уединенье —
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» – глядят разини,
невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посерёдке,
в тебя завёртывают селёдки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мёртвой Мэрилин!).
Орёт продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб – как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!
Самоубийцы – мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идёт всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо всё ждать, чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!
Невыносимо горят на синем
твои прощальные апельсины…
Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше – сразу!
1963* * *
Ты с тёткой живёшь. Она учит канцоны.
Чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы ненавидим проклятую ведьму!..
Мы дружим с овином, как с добрым медведем.
Он греет нас, будто ладошки запазухой.
И пасекой пахнет.
А в Суздале – Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, вороньё,
ты в щёки мне шепчешь про детство твоё.
То сельское детство, где солнце и кони
и соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих…
В России живу – меж снегов и святых!
1963BЕЛОСИПЕДЫ
В. Бокову
Ознакомительная версия.