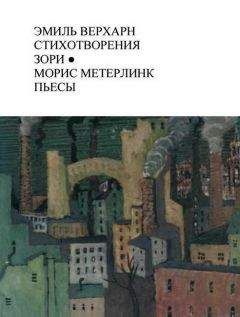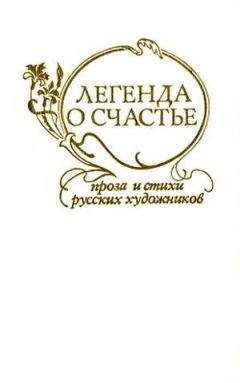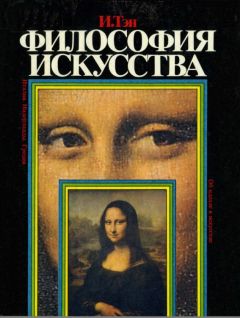Лишь однажды, неожиданно, краски ожили, и Метерлинк доказал, что талант его не зачах. Это случилось в начале второй мировой войны и, возможно, под ее влиянием. Вновь героиней стала жертвующая собой женщина, но на этот раз ею была Жанна Д’Арк. Может быть, сам найденный Метерлинком пример, сам образ Жанны не позволил ему просто «проиграть» еще раз все ту же пластинку.
«Жанна Д’Арк» доказала, что необычная писательская судьба Метерлинка, — не результат естественного, с возрастом нередко происходящего угасания таланта. Да и какой возраст: угасание ведь заметным стало накануне первой мировой войны, а тогда Метерлинку было всего около 50 лет!
Нет, дело не в возрасте. Ответ можно получить в произведениях излюбленного Метерлинком жанра, в бесчисленных его эссе. После первой мировой войны им было написано шестнадцать книг — размышлений по разным вопросам и поводам. Поражает несоответствие огромного проделанного труда, множества исписанных страниц — и незначительного результата. Кажется, что писатель работает на холостом ходу. Почему же? Метерлинк жил и писал в такое время, был свидетелем таких исторических событий, которые сами по себе были ответом на многие, поставленные перед человечеством вопросы. Метерлинк был современником 1917 года, он был очевидцем второй мировой войны, разгрома фашизма. Но как трудно его представить писателем эпохи возникновения социалистического лагеря!
До крайности абстрактный гуманизм увел Метерлинка так далеко от реальных забот человечества, что и гуманизм позднего Метерлинка сомнителен. Метерлинк брал уроки у насекомых, он у термитов увидел «образ нашей судьбы» и «модель будущего общества». Абсолютная социальная дезориентация привела его к тому, что он с сочувствием приглядывался даже к фашизму (итальянскому и португальскому). Не удивительно, что в поисках ответов Метерлинк со все возраставшим вниманием всматривался не в социальную реальность, а в пустоту «возле нас», туда, где, как ему казалось, возник поучительный для живых опыт жизни усопших. Не удивительно и то, что размеры неизвестного, неизведанного не уменьшались в ходе трудов Метерлинка, а все увеличивались, и в итоге многолетней деятельности этого писателя возник вывод: «Бог — всё и всё — бог».
Вот и не удивительно, что такими безжизненными и надуманными были на протяжении почти сорока лет художественные произведения этого очень одаренного человека. Консервативный романтизм превратил Метерлинка в писателя из давно прошедшего времени.
Тогда как умевший наблюдать реальную жизнь Эмиль Верхарн остается необычайно актуальным, хотя довелось ему видеть лишь зори двадцатого века. Можно с уверенностью сказать, что актуальность Верхарна еще впереди, еще дело будущего.
Л. АНДРЕЕВ
{1}
{2}
Старые мастера
Перевод Г. Шенгели
В столовой, где сквозь дым ряды окороков,
Колбасы бурые, и медные селедки,
И гроздья рябчиков, и гроздья индюков,
И жирных каплунов чудовищные четки,
Алея, с черного свисают потолка,
А на столе, дымясь, лежат жаркого горы
И кровь и сок текут из каждого куска, —
Сгрудились, чавкая и грохоча, обжоры:
Дюссар, и Бракенбург, и Тенирс, и Крассбек,
И сам пьянчуга Стен сошлись крикливым клиром,
Жилеты расстегнув, сияя глянцем век;
Рты хохотом полны, полны желудки жиром.
Подруги их, кругля свою тугую грудь
Под снежной белизной холщового корсажа,
Вина им тонкого спешат в стакан плеснуть, —
И золотых лучей в вине змеится пряжа,
На животы кастрюль огня кидая вязь.
Царицы-женщины на всех пирах блистали,
Где их любовники, ругнуться не боясь,
Как сброд на сходбищах в былые дни, гуляли.
С висками потными, с тяжелым языком,
Икотой жирною сопровождая песни,
Мужчины ссорились и тяжким кулаком
Старались недруга ударить полновесней.
А женщины, цветя румянцем на щеках,
Напевы звонкие с глотками чередуя,
Плясали бешено, — стекло тряслось в пазах, —
Телами грузными сшибались, поцелуя
Дарили влажный жар, как предвещанье ласк,
И падали в поту, полны изнеможенья.
Из оловянных блюд, что издавали лязг,
Когда их ставили, клубились испаренья;
Подливка жирная дымилась, и в соку
Кусками плавало чуть розовое сало,
Будя в наевшихся голодную тоску.
На кухне второпях струя воды смывала
Остатки пиршества с опустошенных блюд.
Соль искрится. Блестят тарелки расписные.
Набиты поставцы и кладовые. Ждут, —
Касаясь котелков, где булькают жаркие, —
Цедилки, дуршлаки, шпигалки, ендовы,
Кувшины, ситечки, баклаги, сковородки.
Два глиняных божка, две пьяных головы,
Показывая пуп, к стаканам клонят глотки, —
И всюду, на любом рельефе, здесь и там, —
На петлях и крюках, на бронзовой оковке
Комодов, на пестах, на кубках, по стенам,
Сквозь дыры мелкие на черпаке шумовки,
Везде — смягчением и суетой луча
Мерцают искорки, дробятся капли света,
Которым зев печи, — где, жарясь и скворча,
Тройная цепь цыплят на алый вертел вздета, —
Обрызгивает пир, веселый и хмельной,
Кермессы царственной тяжелое убранство.
Днем, ночью, от зари и до зари другой,
Они, те мастера, живут во власти пьянства:
И шутка жирная вполне уместна там,
И пенится она, тяжка и непристойна,
Корсаж распахнутый подставив всем глазам,
Тряся от хохота шарами груди дойной.
Вот Тенирс, как колпак, корзину нацепил,
Колотит Бракенбург по крышке оловянной,
Другие по котлам стучат что стало сил,
А прочие кричат и пляшут неустанно
Меж тех, кто спит уже с ногами на скамье.
Кто старше — до еды всех молодых жаднее,
Всех крепче головой и яростней в питье.
Одни остатки пьют, вытягивая шеи,
Носы их лоснятся, блуждая в недрах блюд;
Другие с хохотом в рожки и дудки дуют,
Когда порой смычки и струны устают, —
И звуки хриплые по комнате бушуют.
Блюют в углах. Уже гурьба грудных детей
Ревет, прося еды, исходит криком жадным,
И матери, блестя росою меж грудей,
Их кормят, бережно прижав к соскам громадным.
По горло сыты все — от малых до больших;
Пес обжирается направо, кот налево…
Неистовство страстей, бесстыдных и нагих,
Разгул безумный тел, пир живота и зева!
И здесь же мастера, пьянчуги, едоки,
Насквозь правдивые и чуждые жеманства,
Крепили весело фламандские станки,
Творя Прекрасное от пьянства и до пьянства.
Равнины
Перевод С. Шервинского
Вкруг малого села, приземистых домов,
Где колоколенка, алея черепицей,
Встает, увенчана позолоченной птицей,
Где кузнецов меха, где сети рыбаков,
Здесь, где нежданно вид переграждаем чащей,
И здесь, где черные мычат в траве быки,
Где с сеном движутся воза, как бугорки,
Где парус вдалеке виднеется торчащий,
На фоне радужном весь красный, о волнах
Напоминающий и песне, что в просторе
Поутру моряки поют, пускаясь в море,
О солнечной реке, блестящей в лезвиях, —
Всё клевер да овес, луга и луговины,
Повсюду — поле льна, повсюду — поле ржи,
До горизонта, вплоть до пурпурной межи,
Безбрежность зелени — равнины и равнины.
Слюну с могучих морд коровьих отерев,
Перекидав навоз и освежив подстилку,
В рассветном сумраке дверь хлева отперев
И подобрав платок, сползающий к затылку,
Засунув грабли в ларь и подоткнув подол,
Като, дородная и дюжая девица,
Садится на скамью. Скрипит дощатый пол,
А в полутьме фонарь мигает и дымится.
Ступни в больших сабо. Подойник между ног.
Передник кожаный стоит на ней бронею.
Шары-колени врозь. И розовый сосок
Она шершавою хватает пятернею.
Струя тугая бьет, и пузыри кипят,
И ноздри скотницы вдыхают запах вкусный
Парного молока — как белый аромат,
Которым нас весной дурманит ландыш грустный.
И приходя сюда три раза в день, она
Лениво думает о будничной работе,
О парне-мельнике и о ночах без сна,
О буйных празднествах неутолимой плоти.
А парень ей под стать: в руках подковы мнет;
В возне любовной с ней он неизменно пылок,
Таскает он кули. А как она придет —
Он жирный поцелуй влепляет ей в затылок.
Но держит здесь ее коровьих крупов строй.
Коровам нет числа: их десять, двадцать, тридцать…
Стоят они, застыв, хвостом взмахнут порой,
Чтоб от докучных мух на миг освободиться.
Чисты ль животные? Лоснится шерсть всегда.
Откормлены ль? Мяса мощны у них на диво.
От их дыхания бурлит в ведре вода;
Кой-где от их рогов стоят заборы криво.
Желудков и кишок вместительных рабы —
Всегда они жуют, ни голодны, ни сыты,
Муку иль желуди, морковь или бобы.
Сопят, довольные, и тычутся в корыта.
Иль пристально глядят, как пухлая рука
Проворно полнит таз нарубленной ботвою,
Иль устремляют взор на щели чердака,
Где сено всклоченной их дразнит бородою.
Из глины, смешанной со щебнем, слеплен хлев;
А крыша — чуть сидит на скошенных стропилах:
Солома ветхая, изрядно подопрев,
От ливня сильного укрыть уже не в силах.
Гнетет животных зной, безжалостен, суров;
Порой полуденной стоят в поту коровы,
А в предвечерный час на мрамор их задов
Ложится, как рубец, заката луч багровый.
Как в топке угольной, в хлеву пылает жар;
От мест, належанных в подстилке животами,
И от навозных куч исходит душный пар,
И мухи сизые жужжат везде роями.
От глаз хозяина и бога вдалеке —
Ни фермер, ни кюре в хлеву не станут рыскать —
Тут с парнем прячется Като на чердаке,
И может вдоволь он и мять ее и тискать,
Когда скотина спит, хлев заперт на засов
И больше не слыхать протяжного мычанья, —
И только чавканье проснувшихся коров
Тревожит полноту огромного молчанья.