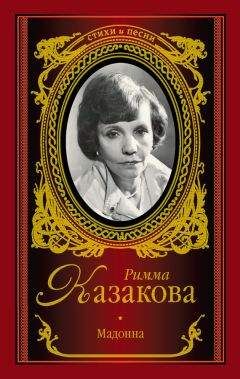Свои
1.Простите все, кого люблю,
с кем я бывала невнимательна, —
свои! – то ласково, то матерно,
то – до небес, а то – к нулю.
Когда я буду в дальнем, том,
где судит только Бог повинного,
откроете – потом, потом! —
на все любовь меня подвигнула.
И если опыт мой ценим,
не вслед, рыданьями напрасными —
при жизни именно к своим
вы будьте бережны и ласковы!
Отчего этот воздух так горек и кисл,
отчего сквозь прикрытые веки
открывается суть, открывается смысл —
для того, чтоб закрыться навеки?
Но шумит надо мной, за спиной пара крыл,
отвергая опоры, перила,
для того, чтобы то, что ты мне приоткрыл,
для себя до конца я открыла.
Я не согласна с нею.
Зачем она ушла?
Она была сложнее,
нежней, чем я, была.
Сама за край предела,
хоть это и грешно,
ушла, не захотела
досматривать кино.
А для меня – не пытка,
что время бьёт и злит,
Я больше любопытна,
чем опыт мне велит.
Нескладно и накладно…
Но я в который раз
прошу судьбу: «Ну, ладно, —
ещё один сеанс!»
И шаг несу упруго
к неясной цели той…
Прости меня, подруга,
под вечною плитой.
У вдов друзей
печальное житье.
От этой доли некуда деваться:
век помнить назначение свое —
писательской женою оставаться.
Она тогда сияла и цвела —
особая порода, племя, раса.
При старом муже девочкой была,
теперь сама стара и седовласа.
Когда их соберется больше двух,
неважно, что мы их героев хаем,
они стихи мужей читают вслух,
их прозу поминают с придыханьем.
Восходят позабытые слова.
Вдова больных и светлых слез не прячет!
И я – вдова,
и я еще жива.
А обо мне хоть кто-нибудь заплачет?
С пестротой своей жанровой
время нас не голубит,
век упрямо не жалует…
А сосед меня любит!
То есть, как и желаемо,
нет добрей и верней.
И ключи я дала ему
от квартиры моей.
А еще продавщица
из отдела молочного
о концерт причаститься
жаждет так озабоченно.
Я ей выдам билетик,
подарю свою книжку
и ничем не унижу
в барахолке столетья.
А еще эти птицы —
на балконном перильце.
Да и небо: до мига —
неоткрытая книга.
В общем, Бог с ним, и с веком,
и со временем тоже.
Ведь себя человеком
ощущаю я все же.
И в карман опустевший
день червонцев нарубит.
И земля еще держит.
И сосед меня любит!
«Погода измениться может…»
Погода измениться может,
пока же небу мой привет
за то, что и дождём не мочит,
и снегопада тоже нет,
за то, что не смиренный норов
покуда быть собою рад
и – ни заслуженных наград,
ни незаслуженных укоров…
«Хоть зла судьба к поэту…»
Хоть зла судьба к поэту,
хоть добра,
его душа —
не перекати-поле.
Поэту подобает худоба:
сгорают углеводы в топках боли.
Пылая, душит дымом материк
взволнованных вопросов без ответов…
Я не про тех, кто рифмы мастерит,
я не про стихотворцев —
про поэтов.
А слов, как дров, мир наготовил впрок.
Но за чертой, где на шкале:
«Довольно!» —
ты в прежнем платье,
в маскхалате строк.
Поймут ли,
что тебе и вправду больно!
«Слова звучат, но больше, чем слышны…»
Слова звучат, но больше, чем слышны.
И все же каковы – гадаю снова —
пропорции, в которых сведены
в необходимый сплав судьба и слово?
Не убедят, втоптавши слово в грязь,
принизив непреложностью событий…
Судьба и слово – связанность, не связь,
и друг от друга силой не отбить их.
И нужно говорить не обо всем,
и тот, влекущий нас в неосторожность
сосуд, в котором жизнь свою несем,
до времени до дна не опорожнить.
Не говори за двоих,
радуясь самонадеянно;
что-то сбылось, что-то сделано,
но обернется ли тем оно,
что в сновиденьях твоих?
И, по себе не судя,
не предрекай, что получится,
а отвечай за себя,
чтоб за обоих не мучиться…
Было – да, видно, ушло.
Кончилась радость пернатая,
жизнью разрублено надвое
это двойное тепло.
Сопротивляется стих,
мечется, не соглашается,
но обреченно решается
не говорить за двоих.
Кто это все разберет?
Горечью счастье приправлено.
Вот говорю за народ —
и полагаю, что правильно.
Вот говорю за людей,
не отстранюсь неприкаянно,
верую непререкаемо:
это – святого святей.
Слово метну, как стрелу,
в точку устами отверстыми.
Может, когда за страну, —
взвешенней все и ответственней?
Может быть, если за всех
за упокой или здравица,
это – сверхвера и сверх —
беспрекословное
равенство!
Как от себя, от своих —
вон куда дерзностно целила! —
от человечества целого…
Но не вещай за двоих.
В долг себе это вменя,
требую в трезвом прозрении,
чтобы и вы за меня
не говорили, посредники.
Слышишь, и ты не греши! —
ты, с кем в счастливом сражении,
и за двоих не реши:
кто потерпел поражение.
Жизнь, восхитив и пленя,
сердце обманом не выстуди,
не говори за меня,
дай мне самой себя высказать!
…Чуден тот миг был, да лих!
Только ведь с благоговением
вспомнишь, что хоть бы мгновением
сказано все за двоих.
Наше дело – донорство,
сколько ни отдашь,
выплеснуть до донышка
душу – страсть и блажь.
Пусть не удостоится
и хвалы подчас,
иссушает донорство,
истощает нас, —
но воздастся стояще!
Пустоту утрат
наше дело, донорство,
возместит стократ.
Вновь кому-то стонется,
кто-то бьёт в набат…
Наше дело – донорство,
милосердный брат.
Это – не трюкачество,
не игра в слова,
если кровь выкачивать
и – дыша едва.
Жизнь шумит и строится.
Свой у всех удел.
Наше дело – донорство
среди прочих дел.
Зачем искать примету
конца былых дорог?
Вопит на всю планету:
«Дорогу Интернету!
Да будут рэп и рок!..»
Компьютерное иго.
Машинный наворот.
Дискеты, файлы, игры…
Счастливые вериги —
или наоборот?
И всё, что мы умели,
пора забыть, уйти?
И, мол, мели, Емеля,
на сайте, на эмэйле
тори свои пути?
И ад свечой потухшей,
победный через край,
летит, терзая уши,
и веселит, и душит
тот электронный рай…
Я принимаю это
не как беду и крах.
Но всё же в сердце где-то —
чуть слышная примета,
какой-то новый страх.
Смотрю вокруг с придиркой:
как изменился день!
Он занялся притиркой
к себе природы дикой,
замшелых деревень,
понятий старомодных,
мистических берёз,
дремучих душ голодных,
пока ещё свободных…
Мне жаль всего до слёз!
Но на скамейке сада
под оком синевы,
где бодрая осада
деревьев и травы,
там силуэт маячит…
Нет, вроде я не сплю:
читает книгу мальчик.
Читает книгу мальчик!
И я его люблю!..
«По праву суда посвященных впервой…»
По праву суда посвященных впервой
нас младшие судят сурово.
Мы вытерпим это, мой друг боевой.
Пусть дразнится юная свора!
Им наши промашки не раз повторять,
как мы стариков повторяли.
Им нечего в жизни еще потерять,
а мы, что могли, потеряли.
И равенство это, что скрыто внутри
раздора святого предмета,
тревожным крылом их весенней зари
касается нашего лета.
Снимает повинность на время пенять
с его маетою и маем…
Пусть этого им до поры не понять,
довольно, что мы понимаем.
Купонов и мы, как они, не стрижем.
Дорога нас не укачала.
Мы в дальнем пути обросли багажом,
но жизнь, как и раньше, – с начала.
«Неужели я все написала…»
Неужели я все написала,
искромсала всю жизнь на куски?
То печаль… То тоска наползала.
Ни печали уже, ни тоски.
Но и радости нет почему-то.
Видно, радость – печали сестра.
Я немного надеюсь на чудо,
а особенно – рано с утра.
Трудно с чувством конца примириться.
Боль уже чуть слышна, но остра.
Я за жизнь буду биться, молиться!
И особенно – рано с утра…
Мы рождены родною речью.
Она других не безупречней,
а лишь роднее и ясней.
И суть земную человечью
мы постигаем в ней и с ней.
В раю, в чистилище, в застенке —
до гроба, до расстрельной стенки
родная речь всегда жива!
И все души твоей оттенки —
её словечки и слова.
Когда пред ней себя склоняю
и слёзы чистые роняю,
от этой красоты пьяна,
ликую, зная: речь родная,
хмельная, нами рождена!
Лепили, строили, строгали,
всем напряженьем окликали
и нарекали всем трудом.
В ней – наше ныне, наши дали,
она – отечество и дом.
И вот живем на белом свете
мы, как родители и дети,
и неизменно день за днем,
за каждый вздох и слог в ответе,
мы с ней друг друга создаём.
Какая сладкая работа!
Как у врача, как у пилота,
как взмах крыла, как тяжесть с плеч!
От лап житейского болота
спасает нас родная речь.
С ней, будто к брату, я кидаюсь —
будь он зулус или китаец —
к любому, кто, подобно мне,
владеет таинством из таинств
в своей единственной стране.
Кто обо всем со мной хлопочет,
взахлёб по-своему лопочет
про общее житьё-бытьё,
понять и быть понятным хочет
и сохранить во всем свое.
Везде: от трав до высей млечных —
мы рождены родною речью.
Она растопит в горле ком,
она одарит нас, как вечность,
бессмертным звездным молоком.
И мы дарить готовы сами —
в ребячьей страсти сдать экзамен,
всю душу выплеснув до дна:
великий смысл, святое знамя,
ту речь, что нами рождена!