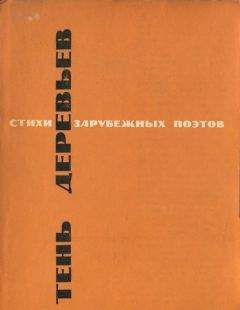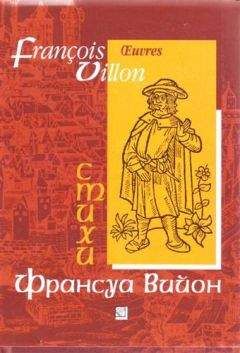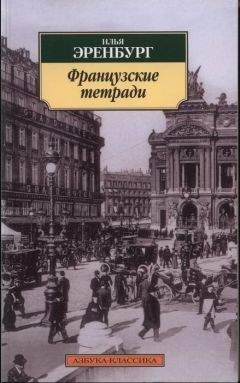Эжен Потье
(1816–1887)
Голодных дней не считать,
С жизнью больше не спорить,
Это ты, Жан-нищета,
Свалился пьяный от горя.
Да, да, да.
Это не кончится никогда!
Валит мокрый холодный снег,
Лохмотья мои покрывает.
Значит, это ты — мой конец,
Парижская мостовая.
Да, да, да.
Это не кончится никогда!
Я водил иглой для чужих именин,
Рубашка моя вся в клочьях,
Я — Жан-нищета, я просто один,
Один из многих рабочих.
Да, да, да.
Это не кончится никогда!
У меня был сын Жан,
У меня была дочка Жанна.
Жана убил улан.
Ласкают Жанну уланы.
Да, да, да.
Это не кончится никогда!
Был день, и сердце мое
Забилось жизни под пару:
Я в руки взял ружье
Парижского коммунара.
Да, да, да.
Это не кончится никогда!
Поставили нас к стене
Гвардейцы и драгуны.
Я крикнул драгуну: «Нет!
Да здравствует Коммуна!»
Да, да, да.
Это не кончится никогда!
На каторге землю я рыл,
Могилу себе я вырыл,
А они средь знамен и кадил
По-прежнему правят миром.
Да, да, да.
Это не кончится никогда!
Стефан Малларме
(1842–1898)
Фавн:
О нимфы, я хочу продлить их…
Заревое
Их тело нежное дрожит в глубоком зное,
Средь чаши снов.
Любил я нимфу или сон?
Не знаю, все как ночь старинная, и я смущен,
Средь веток хрупких. Наяву я вижу ясно
Лишь этот лес. Увы, мне кажется, напрасно,
Один, без нимф, я, засыпая, восхотел
Дать торжество загадке их далеких тел.
Подумай!
Может быть, те женщины лишь тени
Твоих несбыточных и древних вожделений.
О фавн, твой сон, как слез играющий родник,
Из хладных синих глаз стыдящейся возник.
Но погляди, как летний ветерок, вздыхая,
Несходная трепещет пред тобой, иная.
Когда в истоме утро хочет обороть
Жару и освежить томящуюся плоть,
Оно лепечет только брызгами свирели
Моей, что на кусты росой созвучий сели.
Единый ветр из дудки вылететь готов,
Чтоб звук сухим дождем рассеять вдоль лесов,
И к небесам, которых не колеблют тучи,
Доходит важный вздох, искусный и певучий.
О сицилийского болота тихий брег,
Как солнце, гордость сушит твой унылый век.
Под лепестками ярких искр тверди за мною:
«Что здесь, тростник срезая, приручал
его я,
Когда средь золота зеленого лугов,
Средь пышных лоз и влагу сеющих ручьев,
Как будто зверя белизну, узрел я, в лени,
Тех нимф и негу плавную движений.
И при начальном звуке дудки взвился ряд
Пугливых лебедей, не лебедей — наяд».
Я опаленный и недвижный, в полдень гнева,
Не зная, отчего свирели сладкие напевы,
Которые звучат в жестокой тишине,
Рассеивают их, давно желанных мне,
Один, и надо мной лишь солнца блеск
старинный,
Встаю, подобный, лилия, тебе, невинной.
И грудь моя показывает тайный след
Какого-то укуса, но не ласки, нет,
Не беглый знак витающего поцелуя,
Богини зуб его мне подарил, тоскуя,
Но тайна, вот она — воздушна и легка
Из уст идет играющего тростника.
Он думает, что мы увлечены напрасно
Своей игрой, которую зовем прекрасной,
Украсив, для забавы, таинством любовь,
Глаза закрыв, и в темноте рыдая вновь
Над сновиденьем бедер и над спин загадкой,
Мы эти сны, пришедшие к душе украдкой,
Зачем-то воплотим в один протяжный звук,
Что скучно и бесцельно зазвучит вокруг.
Коварный Сиринкс, бегства знак, таи свой шорох
И жди меня, вновь зацветая на озерах.
Я вызову, срывая пояс с их теней,
Богинь. Так, чтоб не знать укоров прежних дней.
Я, виноград срывая, пьяный негой сока,
Пустую гроздь, насмешник, подымал высоко,
И в кожицы я дул, чтоб, жадный и хмельной,
Глядеть сквозь них на вечер, гасший надо мной.
О нимфы, дуйте в разные воспоминанья!
«Мой жадный глаз, камыш сверля, тая желанья.
Движенье нимф, купавших сладостный ожог,
В воде кричавших бешено, заметить мог.
Но вот восторг исчез внезапно, тела чудо,
Средь дрожи блеска вашего, о изумруды!
Бегу и вижу спящих дев, упоены
Истомой вместе быть, их руки сплетены,
Несу, не размыкая рук их, прочь от света,
В густую тень, где розы, солнцем разогреты,
Благоухают, игры дев храня,
Их делая подобными светилу дня».
Люблю тебя я, девственницы гнев, и белый,
Священный груз враждебного и злого тела,
Которое скользит от раскаленных губ,
От жажды их. Как затаенный страх мне люб,
От диких игр неистовой до сердца слабой,
Которая невинность потерять могла бы,
От плача влажная, иль, может быть, одна,
Иным туманом радости окружена.
«Их первый страх преодолеть, рукой дрожащей
Распутать их волос нетронутые чащи,
Разнять упорные уста для близких нег —
Я это совершил, и свой багровый смех
Я спрятал на груди одной из них, другая
Лежала рядом и, ее рукой лаская,
Я жаждал, чтоб сестры растущий быстро пыл
Ее б невинность ярким блеском озарил,
Но маленькая девственница не краснела.
Они ушли, когда я, слабый, онемелый,
Бросал, всегда неблагодарным, легкий стон,
Которым был еще как будто опьянен».
Пускай! Другие мне дадут изведать счастье,
Обвивши косы вкруг рогов моих, и страстью
Созревшей полон я, пурпуровый гранат,
Вкруг пчелы, рея, сок сбирают и звенят.
И кровь моя течет для всякого, кто, жаром рея,
Склонится, отягчен желаньями, над нею.
Окрашен золотом и пеплом рощ покров,
Проходят празднества средь гаснущих листов,
То Этна пред тобой. Венера посетила
Тебя (гремел раскат протяжный и унылый),
На лаве оставляя ног невинных след.
О ты, богиня!
Кара страшная!
Но нет,
Душа, свободная от слов, с усталым телом,
Под зноем полдня, на песка покрове белом,
Измученного жаждой, вы, средь белизны,
Забывши богохульство ваше, спать должны.
Уста подставлю я небесному светилу…
Прощайте, нимфы! Я вас вижу тенью милой!
По небу струились закатные чары,
И ветер, слабея, качал ненюфары,
Большие цветы на уснувших прудах
Печально белели в густых тростниках.
Я шел одинокий и думал тоскливо,
Меня провожали плакучие ивы.
Туман безнадежный над темной водой
Свивался, как призрак, усталый, больной.
Сливаясь с туманом, с моими слезами,
Пугливые птицы звенели крылами.
Я шел одинокий с печалью моей,
И ивы клонили верхушки ветвей.
Вечерние тени сбегали безмолвно
На черное небо, на блеклые волны.
Одни ненюфары в густых тростниках
Печально белели на тихих прудах.
В покинутом парке, печальном, пустом,
Две скорбные тени проходят вдвоем.
Глаза их погасли, уста побледнели,
Их тихие речи звучат еле-еле.
В покинутом парке, печальном, пустом,
Две тени, встречаясь, грустят о былом.
— Скажи мне, ты помнишь ли счастья былое?
— Зачем вы хотите, чтобы помнил его я?..
— Душа моя снится тебе, и тогда,
Скажи мне, ты плачешь во сне? — Никогда.
— О, прошлая радость тебя не тревожит
И первых признаний восторги? — Быть может…
— И синее небо и вера в сердцах?
— Но вера исчезла в ночных небесах…
Так тихо проходят две скорбные тени,
И ночь только слышит их речи сомнений.