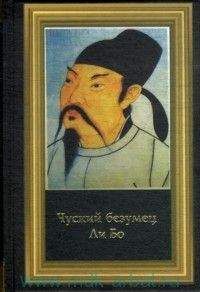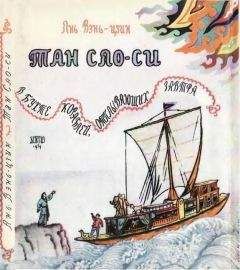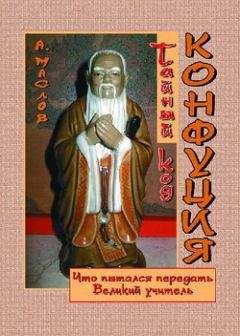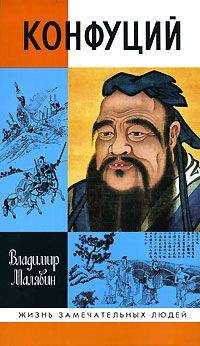Песня о большой дамбе
Воды Хань прилепились к Сянъяну[98],
Здесь, у дамбы, привольно цветку.
Ну, а мне здесь и чудно, и странно —
Тучи с юга[99] приносят тоску.
Не дождаться мне вешних томлений
И ветрами развеянных грез.
Ты, являющийся в сновиденьях,
Зов сквозь небо давно уж не шлешь.
734 г.
Ли Бо часто ездил в город Сянъян (совр. Сянфань), где, отказавшись от государевой службы, жил столь почитаемый им поэт Мэн Хаожань, и они вместе погружались в вольную стихию «ветра и потока», то есть не регламентированную никакими внешними установками жизнь в свободном общении с друзьями за жбанчиком вина, сочиняя и тут же нараспев декламируя стихи. Ведь, как уже после Ли Бо сформулировал поэт, «не вино цель хмельного старца». Вот одним из таких стихотворений и был анакреонтический гимн, написанный в песенном стиле, выбиваясь из нормативности традиционной поэтики. Стержнем его сюжета стала легендарная история о посадском начальнике Шань Цзяне, который любил погулять в тех местах и, захмелев, засыпал в кустах без шапки, что считалось непристойным.
Солнце к ночи прячется в горах,
Кто-то там без шапки спит в кустах
Ну, веселье для сянъянской ребятни,
Все горланят «Ах, копытца медные»[100].
Не смеяться над почтенным кто бы смог?
Распластался, точно глиняный комок.
Ай да чарка желтый попугай[101]!
В день по триста опрокидывай[102]
Целый век все тысяч тридцать шесть
Дней, и зелень волн окрест
Виноградным вдруг покажется вином[103],
Сусло мутное поднимется холмом.
Я на девку обменяю скакуна,
Замурлычет песенку, хмельна,
На телеге чайничек вина,
Флейта с дудкой убеждают пить до дна.
Чем вздыхать над незадавшейся судьбой[104],
Опрокинь-ка ты кувшинчик под луной.
Посмотри на старый памятник Ян Ху
Черепашка раскололась, весь во мху[105].
Стоит ли слезинки здесь ронять?
Стоит ли здесь душу омрачать?
Ветер и луна всегда с тобой
Хоть ты рухни яшмовой горой[106].
Молодецкий ковшик для винца[107]
Ты с Ли Бо до самого конца.
Скрылась Тучка княжеских утех[108]
На восток давно поток утек[109]…
734 г.
Много троп проложил Ли Бо в ближних и дальних окрестностях Аньлу, забредал в глухие места, подальше от хоженых дорожек, и, оставаясь один на один с природой, ощущал себя не наблюдателем, а частью ее, вечной и обновляющейся. Это и была та «чистота», к которой он стремился душой, мировоззрением, образом жизни.
Бреду вдоль наньянского родника Цинлэн
Мне дорого закатное светило
И сей родник холодной чистоты,
Закат дрожит в течении воды.
Так трепетной душе все это мило!
Пою восходу облачной луны…
Но смолк — и слышу: вечен глас сосны.
732 г.
Написал, взобравшись на камень посреди стремнины,
когда брел вдоль Белой речки в Наньяне
В верховьях Белой речки[111] утром шел,
Людей так рано нет здесь никогда,
Зато прелестный островок нашел,
Чисты, пусты и небо, и вода.
Взгляд провожает к морю облака,
Душа меж рыбок плещется в волнах,
Закатного светила песнь долга,
А к хижине ведет меня луна.
732 г.
Внутренняя духовная программа, заложенная в Ли Бо, мешала ему «обуздать» себя, как он писал в одном эссе того же периода. Поэтому его нельзя однозначно назвать «плохим мужем» или «плохим отцом» (а такие оценки попадаются в критических исследованиях). Ли Бо был тем, кого у нас иронично именуют «не от мира сего». Но отбросим иронию, она в применении к гениальному поэту неуместна. Когда он с достаточной зоркостью вглядывался в собственную душу, то осознавал, что суетный мир — не для него. И потому в 60 км от Аньлу соорудил себе на склоне горы среди даоских монастырей хижину, назвав ее «Кабинет в персиковых цветах». В ней винопитие с друзьями он чередовал с погружением в мудрость Лао-цзы и особенно любимого им Чжуан-цзы. Сановитый тесть возмущался, почему не Конфуций. А однажды в лесу на склоне простачок-мирянин поинтересовался, отчего поэт ведет такую праздную и хмельную жизнь, на что Ли Бо с улыбкой, но достаточно серьезно объяснил крестьянину, что лишь в естественности чистой природы способен в полной мере раскрыть себя и исполнить свое предназначение. Кстати, рядом со своим «Кабинетом» он вспахал поле и старательно обрабатывал его.
В горах отвечаю на вопрос
«Что Вас влечет на Бирюзовый склон?[112]»
Лишь усмехнулся, и в душе покой:
Здесь персиковый цвет[113] со всех сторон,
Нет суетных людей, здесь мир иной.
727 г.
На раннем этапе (720-730е годы) Ли Бо, время от времени стряхивая чары молодой семьи, дуновения свежего ветра и благоухания нетронутой природы, обращался к средоточию своих «социальных ожиданий» — востребованности при императорском дворе. Эту мысль он нередко облекал в такую форму, что только ученые комментаторы оказались способны проникнуть за абрис прелестной картинки. В этом стихотворении они метонимически воспринимают лотос как талант, а диву-прелестницу — как императорский дворец, о котором мечтает молодой поэт.
* * *
Среди лотосов я на осенней воде
Засмотрелся на свежесть их и красоту,
Забавляюсь жемчужинками на листе,
Их гоняя туда и сюда по листу.
Мою диву сокрыла небесная даль,
Поднести ей цветок я пока не могу,
Лишь в мечтах я способен ее увидать
И холодному ветру поведать тоску.
729 г.
Несомненен «внеприродный» подтекст и у этого стихотворения: надежды на то, что высокий духом и прямой по своим нравственным качествам поэт пронзит вершиной облака, за которыми сияет свет Сына Солнца-императора.
У южного окна — сосна, одна,
Заросшая пушистыми ветвями,
Не наступает в кроне тишина,
Шумит она и днями, и ночами,
Легла на корни зелень старых мхов,
Туман осенний крася бирюзою.
Как ей достичь вершиной облаков,
Такой высокой и такой прямою?
727 г.
Через 10 лет после своего «Кабинета среди персиковых цветов», уже перевезя семью совсем в другое место, Ли Бо вновь написал о цветке персикового дерева, но совершенно в другом стиле, даже с некоторым ерничеством, так что известный комментатор Ван Ци счел это стихотворение «простоватым по языку, не в стиле Ли Бо».
Перед домом к вечеру раскрылись цветы
Волшебный персик Сиванму[114] я посажу у дома —
Дождусь ли я трех тысяч лет до первого цветка!
Ну, не смешон ли плод такой, что зреет слишком долго? —
Сумеет ли его тогда сорвать моя рука?
737 г.
«Тема вина», достаточно распространенная в китайской поэзии, особенно у Ли Бо, не столь проста, как может показаться. Ее истоки — в стремлении к духовной чистоте и прямоте, «как у сосны». Вино создавало некое отгороженное от мира «пространство», где языки развязывались гораздо смелее, чем в чопорной атмосфере за его границами. Ли Бо чувствовал себя в Танской империи «гостем», «странником», «чужаком», и это слово «кэ» кочевало у него из строки в строку. Вино даровало свободу в компании единомышленников. Не подумайте, однако, что поэт «упивался до чертиков». То мутноватое «мицзю», которое они пили, было не крепче сегодняшнего пива. Все прочее в хмельных живописаниях — раскованная игра художественного воображения. Нередко компанию ему составляла семиструнная цинь. Ли Бо тонко чувствовал музыку, был таким мастером, что предание связало с ним романтическую историю: уже в преклонные годы юная девушка, заслушавшись лившейся из окна поэта мелодией, воспылала чувством и долго преследовала Ли Бо в его нескончаемых путешествиях в жажде открыть ему свое сердце.
С Постигшим истину пьем в горах
Мы пьем с тобой в горах среди цветов —
Фиал вина, еще, еще один…
Иди к себе, а я уж спать готов[116],
Вернешься завтра с семиструнной цинь.
733 г.
В маленьких трактирчиках при дороге обычно подавали местное вино, и в каждом новом месте Ли Бо устраивал дегустацию, выберет то, что понравилось, — и торопит принести сразу целый кувшин. За окном поднимались вверх зеленые склоны, на ветках весело щебетали птицы, словно бы беседуя с поэтом, весной на миг раскрывались яркие цветы, к лету уже роняя лепестки, а осенью скукоживались травы, и в созвучии с этими природными ритмами жил поэт. Не всякое вино вдохновляло, но порой он легко импровизировал что-то с учетом местных реалий и стремительной кистью оставлял четверостишие на стене кабачка.