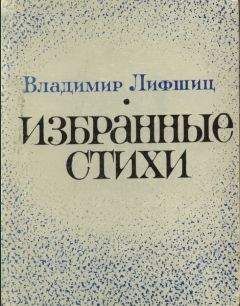ОТКРОВЕНИЯ РЯДОВОГО ЭНДИ СМАЙЛЗА
О казарме
Что ночлежка, что казарма, что тюрьма
Те же койки, так же кормят задарма.
О морской пехоте
На дно мне, ребята, идти неохота,
Для этого служит морская пехота.
О нашем капрале
Так много разных было дел, —
Всегда везде одни изъяны, —
Что он, бедняга, не успел
Произойти от обезьяны.
О качестве и количестве
Нет, Сэр, я отрицаю начисто,
Что я — солдат плохого качества,
Поскольку энное количество
Есть хуже у Его Величества.
О жалости
И если друзья, со слезами во взорах,
Меня закопают на том берегу,
Жалею девчонок — тех самых, которых
Обнять никогда не смогу.
Что ж, наверно, есть резон.
В том, чтоб был солдат унижен.
Первым делом я пострижен
Под машинку, как газон.
На меня орет капрал,
Бабий голос гнусно тонок:
Чтобы я подох, подонок,
Мне желает мой капрал.
А теперь я расскажу,
Как мы дрогли у причала.
Сыпал дождик, и качало
Самоходную баржу.
И бригадный генерал,
Глядя, как идет посадка:
— Нет порядка, нет порядка, —
С наслажденьем повторял.
Ей сказали: мэм, нельзя…
Мэм, вы зря пришли сегодня…
Я, как все, шагал по сходням,
Оступаясь и скользя.
Я узнал тебя, узнал,
Но не мог сойти со сходен,
Надо мной, как гнев господен,
С бабьим голосом капрал.
Мать сына провожает на войну,
Ему пуловер вяжет шерстяной.
Носи его, сынок, не простудись,
В окопах очень сыро, говорят…
Ей кажется:
Окопы — это дом,
Но только неуютный, — ведь война.
Шерсть удалось достать с большим трудом,
В Берлине стала редкостью она.
Пуловер сын недолго проносил.
Теперь меня он греет, — ведь война.
Он грубой вязки.
Серо-голубой.
И дырка в нем от пули не видна.
Сижу в кафе, отпущен на денек
С передовой, где плоть моя томилась,
И мне, сказать по правде, невдомек —
Чем я снискал судьбы такую милость.
Играет под сурдинку местный джаз.
Солдатские притопывают ноги.
Как вдруг — сигнал сирены, свет погас,
И все в подвал уходят по тревоге.
А мы с тобой крадемся на чердак,
Я достаю карманный свой фонарик,
Скрипит ступенька, пылью пахнет мрак,
И по стропилам пляшет желтый шарик.
Ты в чем-то мне клянешься горячо.
Мне все равно — грешна ты иль безгрешна.
Я глажу полудетское плечо.
Целую губы жадно и поспешно.
Я в Англию тебя не увезу.
Во Франции меня ты не оставишь.
Отбой тревоги. Снова мы внизу.
Все тот же блюз опять слетает с клавиш.
Хозяйка понимающе глядит.
Мы с коньяком заказываем кофе.
И вертится планета и летит
К своей неотвратимой катастрофе.
Ах как нам было весело,
Когда швырять нас начало!
Жизнь ничего не весила,
Смерть ничего не значила.
Нас оставалось пятеро
В промозглом блиндаже.
Командованье спятило.
И драпало уже.
Мы из консервной банки
По кругу пили виски,
Уничтожали бланки,
Приказы, карты, списки,
И, отдаленный слыша бой,
Я — жалкий раб господен —
Впервые был самим собой,
Впервые был свободен!
Я был свободен, видит бог,
От всех сомнений и тревог,
Меня поймавших в сети,
Я был свободен, черт возьми,
От вашей суетной возни
И от всего на свете!..
Я позабуду мокрый лес,
И тот рассвет, — он был белес, —
И как средь призрачных стволов
Текло людское месиво,
Но не забуду никогда,
Как мы срывали провода,
Как в блиндаже приказы жгли,
Как все крушили, что могли,
И как нам было весело!
Good bye, my friend!.. С тобой наедине
Ночей бессонных я провел немало.
Ты по-британски сдержан был сначала
И неохотно открывался мне.
Прости за то, что по моей вине
Не в полный голос речь твоя звучала
О той, что не ждала и не встречала,
О рухнувших надеждах и войне.
Мы оба не стояли в стороне,
Одною непогодой нас хлестало,
Но хвастаться мужчинам не пристало.
Ведь до сих пор устроен не вполне
Мир, о котором ты поведал мне,
Покинувший толкучку зазывала.
Давно ль военные дымы
На нас ползли с немых экранов,
И вот уж сами ходим мы
На положенье ветеранов…
На предвоенного —
Теперь, после войны —
Я на себя гляжу со стороны.
Все понимал
Надменный тот юнец,
А непонятное привычно брал на веру.
Имело все начало и конец.
Все исчислялось.
Все имело меру.
Он каждого охотно поучал,
Хотя порою
Не без удивленья
В иных глазах усмешку замечал:
Не то чтобы укор,
А сожаленье…
Таким он, помню,
Был перед войной.
Мы с ним давно расстались.
Я — иной.
Лишь как мое воспоминанье вхож
Он во вторую половину века.
Он на меня и внешне не похож.
Два совершенно разных человека.
1968
Мы расстаемся трижды. В первый раз
Прощаемся, когда хороним друга.
Уже могилу заметает вьюга,
И все-таки он не покинул нас.
Мы помним, как он пьет, смеется, ест,
Как вместе с нами к морю тащит лодку,
Мы помним интонацию и жест
И лишь ему присущую походку.
Но вот уже ни голоса, ни глаз
Нет в памяти об этом человеке,
И друг вторично покидает нас,
Но и теперь уходит не навеки.
Вы правду звали правдой, ложью — ложь,
И честь его — в твоей отныне чести.
Он будет жить, покуда ты живешь,
И в третий раз уйдет с тобою вместе.
1966
В гостинице «Астория»
Свободны номера.
Те самые, которые
Топить давно пора.
Но вот уж год не топлено,
Не помнят, кто в них жил.
(А лодка та потоплена,
Где Лебедев служил…)
И стопка не пригублена —
Пока приберегу.
(А полушубок Шубина
Под Волховом, в снегу…)
Здесь немец проектировал
Устроить свой банкет.
Обстреливал. Пикировал.
Да вот не вышло. Нет.
А мы, придя в «Астории»,
Свои пайки — на стол:
Так за победу скорую,
Уж коли случай свел!
Колдуя над кисетами
Махорочной трухи,
Друг другу до рассвета мы
Начнем читать стихи.
На вид сидим спокойные,
Но втайне каждый рад,
Что немец дальнобойные
Кладет не в наш квадрат.
Два годика без малого
Еще нам воевать…
И Шефнер за Шувалово
Торопится опять.
Еще придется лихо нам…
Прощаемся с утра.
За Толей Чивилихиным
Гитовичу пора.
А там и я под Колпино
В сугробах побреду,
Что бомбами раздолбано
И замерло во льду.
Но как легко нам дышится
Средь белых этих вьюг,
Как дружится, как пишется,
Как чисто все вокруг!
И все уже — история,
А словно бы вчера…
В гостинице «Астория»
Свободны номера.
1970