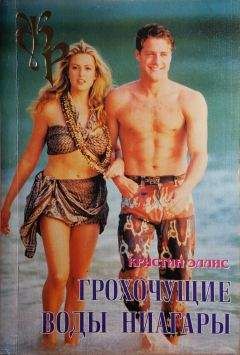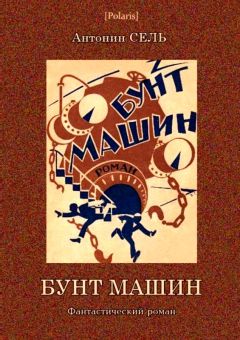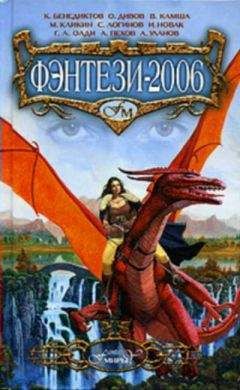— Нет.
— Благородный, должно быть, человек, видишь, в чалме.
— Шарлатан какой-нибудь.
— Ох, старик! Грешно ведь. И Медер куда-то ушел, — засуетилась Маана. — У него были деньги.
— Лишние, что ли? — строго спросил Кайбылда.
— Слышишь, он знает имена всех наших детей, он не обычный пришелец, — не сдавалась Маана.
— Его, наверное, подослал телятник Уметкул.
Теперь усатый певец стал перечислять заслуги старого Канбылды. Он почтенный старец н уважаемый в аиле аксакал. Пел усач о сноровке Кайбылды, его доброте и щедрости.
На этот раз Кайбылда степенно погладил бороду.
«Удачлив в охоте Кайбылда, — пел незнакомец, — меткий стрелок, твердая у него рука, верный глаз, не упустит ни зверя, ни птицу. Правда, был один случай, пострелял Кайбылда своих несушек, думал, горные куропатки кудахчут, но это было давно, да и с кем не бывает в жизни случайностей…»
Старик разгневался было, хотел встать и прогнать всадника в чалме, но увидев весело смеющихся Маану и Чоро, взял себя в руки:
— Неужели, старуха, у тебя нет ничего, нечем тебе проводить за ворота этого крикуна? На, отдай ему, пусть едет дальше.
— Этого мало, старик, — сказала Маана, разворачивая сложенный рубль.
— Мало, — передразнил ее Кайбылда. — Это десять рублей на старые деньги…
Маана поднялась, сняла со ствола яблони сонную, хлопающую крыльями курицу и поднесла пришельцу.
— О, добрая, несравненная тетушка Маана, — восторженно поднял для благословения руки усатый певец, — да ниспошлет вам бог тысячу лет жизни, о-омин!
— Не надо, милый человек. За что мне такое наказание? — мягко запротестовала Маана. — Пожелай лучше счастья моим детям и внукам.
Маана протянула ему курицу, но тут всадник соскочил с осла, снял с головы чалму, усы на резинке — это был Медер.
Старушка резко нагнулась, подняла с земли прут и погналась за сыном. Медер подбежал к отцу, а Маану обняла дочь Назира, которая знала об этой шутке и принимала в ней участие. Медер хохотал, смеялся и Кайбылда. Ничего не оставалось Маане, как смириться, но все же она долго еще хмурила брови, не поддаваясь заразительному смеху детей.
Машина отъехала от отчего дома. Ехали молча. Чоро, высунувшись по пояс из дверей, махал рукой на прощанье. Медер с грустной улыбкой поглядывал в лобовое зеркальце, гам еще были видны стоящие у изгороди мать и отец. Они стояли неподвижно, опустив руки, глядя вслед уходящей машине.
— Ты знаешь, брат, — сказал тихо Чоро, — что такое сыновнее чувство? Это, наверное, вечное чувство долга. Невозможно искупить родительскую любовь. Что бы ты ни делал ради них — это все ничтожно мало.
Касым ждал у гумбеза Манаса. Он был один.
— А где Сагынай? — спросил Медер.
— Я ее не нашел, мне сказали, что она улетает в Москву.
— Куда?.. В Москву? — удивился Медер.
— Да. Завтра.
— Что ей там делать?
Касым пожал плечами.
— Она должна была приехать с тобой…
— Ее не было дома, я разговаривал с родителями. Да что ты так расстроился? Уж и неделю не можешь без нее пожить…
…Куполообразное сооружение из жженого кирпича было недавно реставрировано, и эта обновленная старина не давала того цельного впечатления, что ждал Чоро от древнего памятника. На фасаде мавзолея, сверху и по бокам, шла вязь арабских букв.
Чоро не спеша обошел гумбез, потрогал руками стены, погладил шершавые бока твердого кирпича. Он и не заметил, как к нему подошли Медер и Касым. Они шли в сторону гор и позвали его с собой.
Горы были совсем рядом, всего каких-нибудь полверсты.
Дошли до речки, поросшей барбарисом. Касым снял с плеча ружье, вынул его из чехла, словно скрипку, и, не спеша, испытывая удовлетворение, вычистил его тряпкой, щелкнул курком и остался доволен.
Над высокой голой скалой парил беркут, он изредка взмахивал тяжелыми крыльями, и этих взмахов хватало беркуту на огромный круг. Медер наблюдал за ним, запрокинув голову. Касым прицелился в беркута.
— Красиво, ничего не скажешь! — сказал Касым, опуская ружье.
— Да, — согласился Медер. Он был по-прежнему молчалив и расстроен.
— Я еще не охотился в этом году, все некогда. Смажешь ружье, почистишь и опять в чехол. Надо бы хоть прицел проверить.
Касым пошел в сторону кустов барбариса, чтобы поставить что-нибудь для мишени, вдруг, сгибаясь, бросился бегом к густым зарослям. Его уже не было, видно, и только по торчащему стволу ружья Медер мог определить направление прицела.
Раздался глухой выстрел. Сизый голубь, наверное, был подбит при взлете, потому что его отбросило резко и далеко, словно с силой дернули за нитку, привязанную к лапке. Касым появился довольный.
— Все в порядке, — сказал он, щелкая затвором. Выпала остывшая гильза, колыхнулся над курком еле заметный дымок. — Есть еще порох в пороховницах. Я боялся, думал, ржавчина поела, давно не стрелял…
— Не там ржавчину ищешь, — с укором сказал Медер.
— Ты о чем? — удивился Касым.
— Ни за что, ни про что убил птицу. Чтобы только прицел проверить. — Медер поглядел на Касыма и недозольно покачал головой.
— Ну-у, — усмехнулся Касым, — ты мизантроп, черт побери. Все метафорами выражаешься, образами мыслишь…
— Брось трепаться, — досадливо произнес Медер. — Брось…
— Значит, по-твоему, я чудовище какое-то?
— Я не понимаю человека, который приобретает ружье и круглый год с замиранием сердца, с щемящей сладостью готовится убивать. Он живет среди нас, ходит на работу, мило улыбается, гладит по голове детей, учит их добру, а сам, между тем, лелеет в своей душе зверя.
— Ну-у, с такой характеристикой меня ни один зоопарк не примет. Ты просто не в духе и понятно почему, — еле заметно улыбнулся Касым. — Вот и видишь все в мрачном свете.
А была бы Сагынай…
— При чем здесь Сагынай? — вспылил Медер.
— При том, что нечего июни распускать. Это обычная охота, друг мой. Мало ли убивают на охоте? С древних времен и до наших дней…
— Не для забавы же убивали. Чтобы выжить!
— На охоте всякое бывает, и ты это знаешь не хуже меня, твой отец охотник, беркутчи…
— Охота с беркутом — борьба на равных. Сила с силой меряются, побеждает сильный. Или сокол берет волка, или сам разбивается оземь, а то случается, и мертвый волк перегрызает ему шею и крылья. Это охота не для истребления, это страсть, возрождающая в душе человека чувство причастности к природе.
— Опять символ, опять метафора. Мне до сих пор казалось, что мы живем в реальном мире, а не в мире символов, — иронически заметил Касым.
— Ты изменился, Касым, — очень грустно сказал Медер. — Раньше ты, ненароком обидев кого, долго переживал. Теперь ты не так сентиментален. Ну что там какая-то птица, когда надо проверить прицел…
— Этот выстрел случайный, все произошло неожиданно. Подвернулся голубь, на роду коему было суждено…
— Ты стал уверен в себе. Самоуверен. И убежден, что все можно. Ты сказал недавно, что некоторые считают, что я тебе завидую, твоим успехам и потому оспариваю твой проект. Но согласись, ведь в какой-то мере это и твое мнение.
Медер ждал ответа, но Касым молчал.
— Скорбно, когда теряешь друга, — тихо сказал Медер.
Старый, неказистый на вид, но надежный газик-вездеход Медера, не сбавляя скорости, мчался по широкой автомагистрали, затем свернул па проселочную дорогу, в сторону видневшегося селения.
Машина резко затормозила у небольшого домика — аильной почты. Медер, не обращая внимания па праздно беседующих людей, торопливо, почти бегом вбежал внутрь.
— Мне нужно Фрунзе, срочно, — попросил Медер.
— В течение часа, — устало произнесла женщина.
— Попросите по срочному.
— В течение часа, — повторила женщина, глядя мимо Медера.
— Ну хорошо.
Она долго набирала номер, долго ждала ответа, и наконец ей все же удалось передать заказ.
Медер развернул старую газету и стал ее просматривать.
Открылись двери, вошла старая женщина. Почтальонша поздоровалась с ней, подала квитанцию — расписаться. Та, подшучивая над своей близорукостью, с трудом вывела свое имя. Почтальонша насчитала ей сорок два рубля пенсии, поинтересовалась:
— Вы что так поздно получаете, джене?
— Да болела я, — улыбнулась старуха, — поясницу ломит, вот только поднялась и сюда.
— Больше не болейте. А я думала, у вас большие запасы, — пошутила почтальонша.
— Какие запасы, — махнула рукой старуха, — сроду их не копила. — И не попрощавшись, направилась к дверям, на полпути вспомнила что-то, остановилась. — И-и, глупая моя головушка, как решето, ничего-то в ней не держится. Ай, кыз[9], говорят, у тебя корова подохла? — спросила она почтальоншу, сочувственно качая головой.
— Да, джене, свежего клевера объелась, брюхо разорвало…