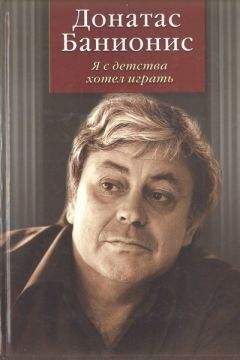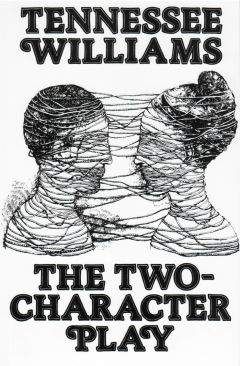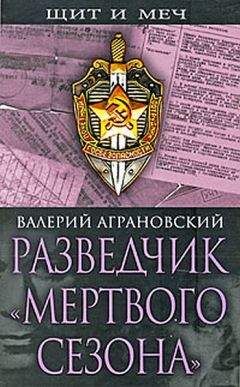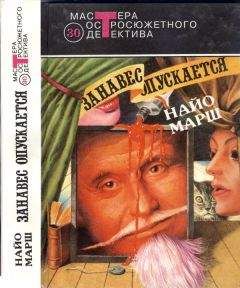В Клубе железнодорожников был драматический кружок. Мне предложили им руководить, и я согласился. Мои артисты были железнодорожники или члены их семей — несколько женщин и мужчин. Помнится, репетировали мы комедию классика литовской литературы Юлии Жямайте «Три возлюбленные». Участники кружка сразу почувствовали «кайф». В комедии говорится о том, как у одной женщины батрачил бравый малый. Он нравился и самой пожилой хозяйке, и двум ее дочерям. Конечно, батрак надул всех трех, выманив у них деньги. Артисты так увлеклись и вжились в характеры, что мне и давать указания не потребовалось… Потом нам привезли откуда-то из России смешные миниатюры. Это были произведения, похожие на те, которые позднее исполняли знаменитые Тарапунька и Штепсель. Я сам переводил эти тексты на литовский, и самодеятельные артисты их исполняли на концертах, посвященных Дню железнодорожника, 1 Мая, и публике это нравилось.
А в 1947 или 1948 году мне предложили стать руководителем самодеятельного театра кукол все в том же Клубе железнодорожников. Театр существовал и до меня, был в нем и руководитель, да куда-то испарился. Осталась ширма и желание продолжить работу. Я согласился. Артистами у меня были десяти-двенадцатилетние дети железнодорожников. Прежде всего, конечно, нужны были куклы. Но я же керамик: сам мог создать головку — зайца, лисы, волка, девочки или мальчика — из глины, оклеить папье-маше. Потом высохшую головку разрезал сбоку, для того чтобы вынуть глиняную, склеивал, красил, рисовал глаза, губы — обычная технология. На руку надевали перчатку, на перчатку — готовую головку, и кукла оживала. Иногда девочки шили для куклы одежду. Декорации делали в железнодорожных мастерских. А играли мы на сцене клуба. Несколько сказок инсценировал я сам. Так началась моя игра в куклы. Мы даже на гастроли выезжали. Железнодорожники давали нам вагон, и мы ездили в Трошкунай и другие местности. Потом, когда женился, моя жена Она, ласково называемая Онуте, помогала мне в театре кукол. Затем театр из клуба перевели во Дворец пионеров. В конце концов жена полностью взяла на себя руководство им. Ведь я был занят — учился. Но и сегодня встречаю своих бывших артистов.
А в это время около Паневежиса быстро строился военный аэродром. Там были бомбардировщики и транспортные самолеты, летчиков присылали из России. Семьям офицеров вскоре построили дома, а солдат поселили в казармах близ аэродрома. Был открыт Дом офицеров. Военные, узнав, что я понимаю по-русски, предложили поработать с их драматическим кружком, где мы подготовили несколько спектаклей. А я только после войны стал более интенсивно изучать русский. С одним коллегой мы перевели с русского сказку «Заколдованное зеркало». С летчиками-офицерами приехали и их семьи — жены, дети. Потом открыли русскую гимназию (там и сейчас русская школа). Тогда я поближе и познакомился с русскими. Они любили театр, ходили и на наши спектакли. А мы сразу после войны, как я уже говорил, играли «Денежки» и «Поросль». В спектакле «Поросль» есть сцена, происходящая в классе, — в ней много шума, просто суматоха. Офицеры весело шутили: «Так что у вас в репертуаре только „Денежки“ и „Суматоха“?»
…В конце 1947 года, 24 декабря, накануне католического Рождества, я был приглашен к своим коллегам в актерскую семью Эугении Шульгайте и Гедиминаса Карки на сочельник (по-литовски Кучёс). По католическим традициям, это священный вечер, когда на столе блюда из сельди и рыбы, яблоки и орехи. По старинным литовским традициям блюд должно быть двенадцать — как месяцев в году. На столе зажигается свеча и ставится одна лишняя тарелка. Тем, кто из этого дома ушел в вечность. Обычно собирается семья, иногда приглашают ближайших друзей. К столу садятся, когда в небе зажигается первая звезда.
Но мы все в то время жили небогато, двенадцати блюд, быть может, и не было, зато была приглашена Онуте Конкулявичюте, актриса нашего театра. Но именно этот вечер — сочельник и то, что там была Онуте, — стал для меня судьбоносным.
Во время немецкой оккупации в Паневежисской женской гимназии был организован драматический кружок. Его посещали и юноши из мужской гимназии. Спектакли в кружке не ставили, учили как в драматической студии: предлагали импровизации, объясняли основы игры. Занятия проводил сам Юозас Мильтинис или кто-нибудь из наших старших актеров. В 1943 году в нашем театре была поставлена пьеса О. Эрнста «Система Флаксмана». Действие пьесы происходило в гимназии. Нужно было много исполнителей, и поэтому Мильтинис пригласил принять участие в спектакле и учеников из драматического кружка. Так на сцену пришла и моя будущая жена Она. В том же году четыре девушки из того же кружа, окончив гимназию, были приняты в наш театр актерами-кандидатами — Регина Зданавичуте, Стасе Брейвайте, Эугения Шульгайте и Она Конкулявичюте.
Я в то время девушками не интересовался — придерживался установленного Мильтинисом порядка: пока мы ученики студии, никакой любви, никаких семейных уз в театре быть не может! Ну, конечно, не то чтобы совсем не замечал, но театр меня интересовал больше. Увы, однако, чему быть — того не миновать: от судьбы не убежишь. В то время мы не дружили, были просто коллегами. В 1945 году, весной, Онуте внезапно из театра ушла. Кто-то рассказывал, что ее отца и брата репрессировали и сослали в лагерь в Воркуту за то, что у отца было около 80 гектаров земли. Одним словом, кулацкая семейка, враги народа. Еще один брат, старший, успел убежать на Запад, а мама вместе с младшим сыном — братом Оны — пряталась. Онуте тоже пришлось бежать. Она уехала в Вильнюс, боясь ссылки в Сибирь, и, утаив, что ее отец многоземельник, поступила в университет на филологический факультет. Я иногда ездил в Вильнюс, а заодно отвозил ей письма и посылки от бывших коллег из театра. Она проучилась в Вильнюсе два года, а потом стали говорить, что у нее фальшивые документы, что ее отец в лагере. Чтобы не пришлось укатить за ним, Онуте вернулась в Паневежис, и Мильтинис принял ее обратно в театр.
Возвращаясь к памятному вечеру, вспоминаю, как впервые взглянул на нее по-другому. Темноволосая, веселая, бойкая… Словно и не было жизненных испытаний и потерь. Я проводил ее домой, и мы договорились встретиться завтра. Она жила в театральном общежитии — двухэтажном доме из красного кирпича на улице Театро. Время, как известно, летит быстро: пролетел январь, кончался февраль. Ее день рождения 24 февраля отпраздновали вместе. Так началась близкая дружба. Однажды мы поехали в гости к моей сестре. А ее муж и говорит: «Поженились бы уже. Сколько же можно». Сказано — сделано! В ЗАГСе наш брак зарегистрировали 2 апреля. Коллеги и верили, и не верили. Первое апреля — день, когда полагается друг друга разыгрывать! Когда мы поженились, я переехал в комнатку Онуте, правда, ненадолго. Недели через три в доме произошел пожар, и мы остались без жилья. Приют нашли в театре, точнее, в пошивочной мастерской. Жили там около месяца: ночью спали, а утром приходил портной и мы убирались оттуда.
Брак, зарегистрированный в ЗАГСе, — хорошо, но как же без церковного благословения? Это нам казалось грехом. Церковное бракосочетание состоялось в мае. Белый кафедральный собор. Молодые, как и мы, актеры нашего театра. На органе играл сам Миколас Карка — у его сына и невестки мы были на том памятном ужине. И вдруг под сводами собора зазвучал удивительный голос. Пел знаменитый баритон Йонас Стасюнас. Пел для нас. Так как своей квартиры у нас не было, свадебный пир устроил тот же Миколас Карка, позвав всех в свой дом. Мама Онуте была с нами. Из деревни, где Онуте родилась, нам привезли пиво, копченый окорок и все, что нужно для свадьбы. Всю жизнь храним свадебные фотографии, сделанные на ступеньках собора, — на них мы молоды и счастливы… Спустя годы в том же соборе проходила наша золотая свадьба, и гостей мы уже могли угощать в ресторане.
А тогда мы вскоре сняли квартиру на улице Штаро. Состоящую из одной комнаты — в ней спали, в ней ели, в ней и готовили. Когда родился сын Эгидиюс, мы нашли другую квартиру на улице Стотиес, ведущей к железнодорожному вокзалу. Хозяин дома жил наверху, к нему надо было подниматься по узеньким ступенькам. Мы же поселились внизу, в маленькой двухкомнатной квартире с кухней.
Там и окрестили сына. В костел его не носили, ксендза пригласили домой. Мы оба католики — практикующие католики, в костеле венчались. Попросили Мильтиниса, чтобы был крестным. Жизнь состоит из парадоксов: Мильтинис, запрещавший актерам жениться, выгнавший из театра две поженившиеся пары, очень любил детей. Правда, к тому времени наш грозный режиссер чуть усмирился. А что было делать? Течение жизни не остановишь. Он уже крестил нескольких актерских детей. Стал крестным и нашему первенцу. Правда, настоятель костела поинтересовался: «Почему вы попросили быть крестным человека либеральных взглядов? Сумеет ли он воспитывать ребенка по-христиански?»