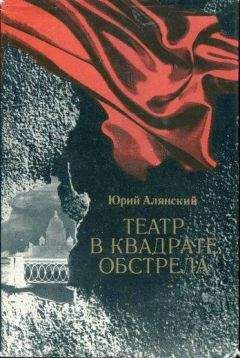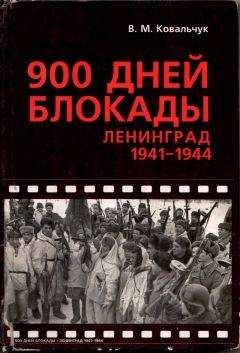В блокадных дневниках тех, кто побывал на этом концерте, есть упоминания о том, что слушатели и оркестранты, главным образом скрипачи, сидели в ватниках, а виолончелисты и контрабасисты смогли надеть даже полушубки: у этих музыкантов движения рук направлены книзу, рукава полушубков мешали им в меньшей степени. И оркестр играл, хотя к медным валторнам, трубам, тромбонам страшно было прикоснуться — они обжигали пальцы; мундштуки примерзали к губам. Оркестр играл. Люди в зале притоптывали во время концерта ногами, чтобы согреться, но шума не возникало: все пришли в валенках.
А в подъезде Филармонии разместилось пулеметное гнездо.
В середине декабря один из солистов симфонического оркестра рассказывал друзьям:
— Давали мы концерт в госпитале. Бойцы принимали отлично, хлопали. После конца решили покурить, разговорились с выздоравливающими. «Как вы здесь живете, что делаете?» — спрашивают без особого интереса, больше из вежливости. Вот, играем в оркестре. Один на весь Ленинград теперь остался. Полтора месяца на трудработах были — под Батецкой. На казарменном положении живем. В пожарной команде состоим. На чердаках во время налетов. Завалы разбираем, зажигательные бомбы тушим. И тут почувствовали, что здесь не официальная встреча зрителей и артистов, а настоящее дело. Как будто граница какая-то стерлась. Им приятно, что здесь не тыловики отсиживаются. Война и заботы — общие. То же дело, что и они, здесь другие делают. Кое-кто из них был в Батецкой. Почти в одно время ушли… Вот оно что значит, тыл и фронт — едины.
Еще продолжались репетиции оркестра в радиостудиях. Композитор Валериан Михайлович Богданов-Березовский — один из тех ленинградских композиторов, кто находил в себе силы работать, — сочинил несколько вещей на современную тему. А потом записал в дневнике: «Воскресенье, 28 декабря. С 11.30 до 13 — репетиция «Летчиков» в радиостудии под управлением К. И. Элиасберга. Милый Карл Ильич, скелетоподобный, с ничуть не убавившейся требовательностью тормошит, понукает и подбадривает артистов оркестра, с трудом водящих смычками по струнам и едва дующих в свои мундштуки. Тем не менее я взволнован реально слышимой звучностью своей партитуры. Но почти уверен, что эта первая репетиция будет и последней, ибо оркестр радиокомитета явно не в состоянии продолжать работу».
Скоро, действительно, прекратились и такие репетиции. Лютая голодная зима делала свое дело. Из ста пяти оркестрантов несколько эвакуировалось, двадцать семь человек умерли от голода, остальные стали дистрофиками, людьми, не способными даже передвигаться.
Музыка в Ленинграде замерла, будто замерзла. Радио ее больше не транслировало. Многие музыканты находились в гостинице «Астория», где первой блокадной зимой разместился стационар для особенно истощенных людей. Здесь вместе с женой, концертмейстером радиокомитета Надеждой Дмитриевной Бронниковой, жил в комнате на седьмом этаже Элиасберг. Где-то поблизости лежал Владимир Софроницкий. Иногда по вечерам он подходил к расстроенному пианино и играл — минут десять-пятнадцать, не больше: сил не хватало. И звуки Скрябина или Рахманинова, Листа или Шопена проникали в темные номера, где интуристовская мебель сочеталась с приметами пещерной жизни. Софроницкий играл в темноте, надев перчатки с отверстиями для пальцев, и музыка его вызывала у полулежавших во мраке людей давние, полузабытые воспоминания.
Седьмая симфония быстро приближалась к завершению. Шостакович решил сыграть ее нескольким друзьям, композиторам, которых специально для этого пригласил. Когда друзья вошли, их сразу же поразили огромные листы партитуры, лежавшие на столе. Оказалось, что к обычному составу симфонического оркестра Шостакович прибавил дополнительный медный духовой оркестр, способный умножить мощь симфонического звучания. Дмитрий Дмитриевич сел к роялю. Он играл нервно, приподнято. Вдруг где-то близко завыла сирена. Композитор прервал игру, чтобы проводить жену и детей в бомбоубежище, а друзей просил не расходиться. Вернувшись, он продолжал играть под сухой и резкий, не предусмотренный партитурой, аккомпанемент зениток. Затем Дмитрий Дмитриевич приступил к третьей части, предупредив, что показывает ее наброски. Когда музыка смолкла, пораженные слушатели попросили автора повторить все сначала. А еще через два часа несколько ленинградских композиторов, ставших первыми, кто услышал симфонию, шли через Кировский мост в глубоком молчании. Они не могли даже обменяться впечатлениями — так потрясло их услышанное.
Вскоре после этого композитор эвакуировался в Куйбышев. Там он завершил оркестровку симфонии.
5 марта сотрудники Ленинградского радиокомитета, как обычно, ловили передачи центрального вещания, которые шли из Куйбышева. Закончились последние известия. И вдруг голос диктора объявил, что через несколько минут все радиостанции Советского Союза начнут транслировать симфонический концерт. Оркестр Большого театра Союза ССР и оркестр центрального радио исполнят под управлением народного артиста СССР Самосуда новую симфонию Дмитрия Шостаковича, которую автор назвал Седьмой. Это будет первое исполнение симфонии, написанной композитором в осажденном Ленинграде. Диктор предоставил слово Шостаковичу. Своим негромким глуховатым голосом композитор рассказал стране, всему миру о новой симфонии, о том, как и почему она возникла, о том, что он посвящает ее Ленинграду, всем ленинградцам и нашей грядущей победе над фашизмом; Шостакович сказал еще, что советский художник никогда не останется в стороне от той грандиозной схватки, какая идет сейчас между разумом и варварством, между светом и тьмой.
…В репродукторе что-то затрещало. Это в Куйбышеве студийные микрофоны переключались на зрительный зал Дворца культуры, где на эстраде уже сидели и настраивали инструменты артисты огромного объединенного оркестра. Они ждали, пока композитор войдет в ложу зрительного зала. Ждал Самосуд. Ждали люди, переполнившие зал. Ждал мировой эфир, готовый принять в себя электромагнитные волны с берегов великой русской реки. И грянула музыка, рожденная войной, гневом и сопротивлением города.
Когда трансляция из Куйбышева окончилась и лица редакторов и режиссеров ленинградского радио еще выражали напряженную сосредоточенность, кто-то из присутствующих сказал:
— А что, если и нам попробовать?..
Все с недоумением переглянулись. Но идея исполнить Седьмую симфонию в осажденном Ленинграде родилась.
29 марта симфония прозвучала в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, — оркестр и дирижер были те же, что и в Куйбышеве. Концерт опять транслировался по радио. 22 июня, в первую годовщину войны, она зазвучала в Ташкенте. 9 июля ее услышали новосибирцы — в исполнении эвакуированного оркестра Ленинградской филармонии. Ленинградцы узнавали об этом из последних известий по радио.
Весной сорок второго года Ленинград залечивал тяжкие раны блокадной зимы. Желанное тепло разливалось по зеленеющим скверам, по глубоким каменным колодцам дворов. На солнечной стороне у ворот неподвижно сидели еще по-зимнему закутанные фигуры. На улицах было тихо-тихо: в город не вернулись птицы, и некому было петь в нежной листве израненных деревьев…
В 1941 году в Нью-Йорке вышла книга Джона Таскера-Говарда «Наши современные композиторы»; автор говорил в ней, что Америка не имеет своего Бетховена или Вагнера и что мир с нетерпением ждет явления музыкального мессии. «Америка, — писал автор, — может выдвинуть его, так же как и любая другая нация».
В ожидании своего или чужого мессии американский народ все более увлекался в те дни русской музыкой. Пластинка с записью Первого концерта Чайковского в исполнении Горовица и оркестра под управлением Тосканини, выпущенная фирмой «Victor», разошлась в количестве 150 000 экземпляров за несколько дней. В Нью-Йорке возникло Скрябинское общество. В Метрополитен-опера Леопольд Стоковский готовил оперу Мусоргского «Борис Годунов» в новой инструментовке Шостаковича и в постановке Михаила Чехова. И в это самое время самолет, который ничем не отличался от сотен других самолетов, вылетел из Москвы, пересек Иран и Египет и достиг Американского континента. Самолет перенес через половину поверхности земного шара необычный груз — партитуру Седьмой симфонии Шостаковича.
19 июля сорок второго года симфонию исполнил в Нью-Йорке с оркестром Национальной радиовещательной компании Артуро Тосканини. После него в одних только Соединенных Штатах ею дирижировали Сергей Кусевицкий, Леопольд Стоковский, Артур Родзинский, Фредерик Сток, Ганс Киндлер, Дмитрий Митропулос, Альберт Штоссель. В Мексике ее исполнил дирижер Карлос Чавес. В Канаде — Эрнст Макмиллан.
В Аргентине, Перу, Уругвае — Хуан Кастро и Фриц Буш. Продюсеры наперебой слали Шостаковичу приглашения приехать в Америку и выступить с исполнением своих произведений. Первые страницы газет посвящались советскому композитору. После исполнения Седьмой симфонии оркестры играли национальный гимн Соединенных Штатов, и люди вставали. 25 сентября, в день рождения композитора — ему исполнилось тридцать шесть лет, — в Сан-Франциско открылся «Фестиваль Шостаковича». «Симфония дает нам силу и надежду, что новый мир придет…» — писала «Дейли уоркер». Журналист А. Колдуэлл признавался в «Ивнинг рекорд»: «Безграничная храбрость и воля к жизни, обеспечивающая победу русского народа, видна в его музыке. После последнего взмаха Тосканини, завершившего поистине грандиозный финал симфонии, я думаю, что каждый из присутствующих в зале повернулся к своему соседу (я сделал это!) и сказал: «Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой!» В городе Торонто писали: «Седьмая симфония равна лучшим страницам Бетховена». А С. Кусевицкий сказал, что «со времен Бетховена еще не было композитора, который мог бы с такой силой внушения разговаривать с массами». И пришел он из нашей страны.