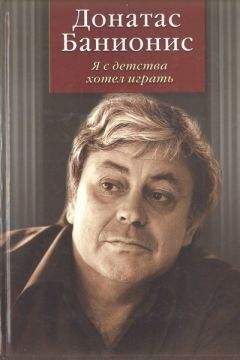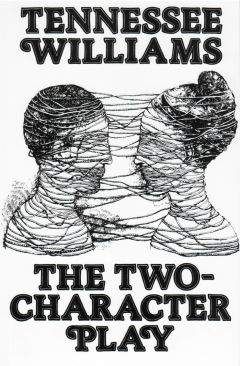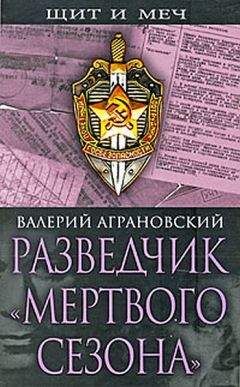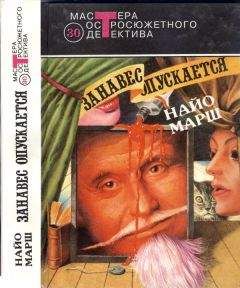Наша парторганизация начала создаваться извне. Попробовали бы актеры проявить инициативу, когда еще был Мильтинис. Его бы это обидело. «Не разрушайте изнутри дисциплину и порядок», — непременно сказал бы он. После возвращения в театр Мильтинис просто смирился с тем, что у нас существует парторганизация. В ней были самые сильные актеры. Правда, Виткус — тоже сильный актер — не был в партии. С ним произошла интересная история. В начале шестидесятых мы ехали в первую зарубежную туристическую поездку в Польшу. Виткуса не выпустили. Причина? То ли он родился в Бразилии, то ли ездил туда с отцом, короче, был за границей, и хватит. Мильтиниса тоже не выпустили по той же причине. Одним же из аргументов в пользу возвращения Мильтиниса в театр было то, что парторганизация может теперь за ним присматривать. Это было, конечно, смешно.
В моем архиве сохранилось письмо, отправленное Мильтинису в период его изгнания. И ответ Мильтиса на него. По-моему они характеризуют наши отношения и взгляды моего учителя на театр и меня:
Паневежис, 1954 г. 19 июля
Уваж. тов. Мильтинис!
Хотя прошло немного времени со дня Вашего отъезда из Паневежиса, но так ощущается Ваше отсутствие, словно прошло уже несколько лет с этого момента. Может, это только мне так кажется, так как все представлялось мне несколько иначе. Я не думал, что события так заострятся. <…> В Дусетос мы столкнулись с Вильнюсским театром. Они там гастролировали с «Жалдокине» за день до нас и мы с ними встретились. <…> Симашка[1], увидев меня, сразу спросил, как с переездом? Для меня это была новость и я попросил объяснить все поподробнее. Симашка сказал, что после смерти Игнатавичюса и по другим причинам им нужны новые актеры. Они это обсудили, и Симашка предложил меня. Рудзинскас[2] согласился и поручил Симашке спросить меня, не против ли я. <…> Я пока не думаю никуда ехать. Разве что в театре начнется чертовщина и не будет другого выхода. Но пока ситуация не такая. Мне кажется, что мы сможем сохранить внутреннее единство, так как ядро — твердое. Есть покушения на это единство, но эти попытки встречают соответствующую реакцию с нашей стороны. Самое важное, что попытки взорвать идут не изнутри, а извне от одной-двух личностей, и это не так уж опасно. Очень ждем Вашего возвращения в Литву, может, тогда будет что-то новое.
ДонатасРогачево, 1954.VIII.14
Милый Донатас,
Ты писал, что тебя приглашает Вильнюсский театр. Знаешь, я не верю, что это может быть серьезным приглашением, потому что Зулонас мне сказал, что Бабкаускаса пригласит.
Р. S.
Мне кажется, что этим приглашениям не следует слишком радоваться, лучше держитесь в своем коллективе. Везде лучше, где нас нет. Об этом необходимо постоянно серьезно думать. Вильнюсский театр — театр «с трещинкой». Если вы так начнете разбрасываться, один — туда, другой сюда, так знайте, что нигде сильными не будете. Я, конечно, не отговариваю, но предлагаю серьезно обдумать. Многим из наших актеров не хватает серьезного погружения в работу, немного и тебе. Алякне — больше всех. Вот теперь приходится быть руководителем, а подготовки — нет. Ему самому, возможно, и приятно, но для других шутки плохи. Одними личными отношениями ничего не решишь и не выиграешь. Это — фата-моргана. Временно это хорошо, выгодно. Я, наверное, не должен был бы тебе об этом писать, но, поскольку ты был моим учеником и актером моего театра, я не слишком стесняюсь кое-что сказать или написать. Ну, еще раз всего хорошего.
Юозас МильтинисА за несколько месяцев до этого, когда Мильтинис еще не был уволен, но всем уже было ясно, что с ним хотят разделаться, он ставил «Чайку» А. П. Чехова. Мильтинис неоднократно говорил, что из всех пьес Чехова ему наиболее близок «Иванов». Очевидно, с Ивановым он отождествлял себя духовно. Но эта пьеса в нашем репертуаре появится лишь шесть лет спустя. А в том далеком и тревожном для театра 1954-м мы репетировали «Чайку».
Почему «Чайку»? Быть может, его заинтересовала тема пути художника. Для него было важно, чтобы театральные искания не оказывались бессмысленными. Треплев, которого играл А. Масюлис, в пьесе кончает жизнь самоубийством, потому что зашел в тупик. Он был достаточно самолюбив, но не знал, как найти дорогу к истинному искусству. Герои пьесы — живые люди, мечтающие о чем-то светлом, лучшем в жизни. Но, как назло, все их стремления словно ударяются о стену. Мильтинис старался избегать сентиментальности, акцентируя внимание на динамике чувств и эмоций.
Я играл доктора Дорна и, будучи еще молодым, не очень-то понимал, что именно я должен играть. Мы знали только, что в диалоге Дорна и Треплева заключены мысли, особенно близкие Мильтинису. «Да… — говорил мой герой. — Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту».
Нину Заречную играла Л. Лиесите, Тригорина — Б. Бабкаускас, Аркадину — Е. Шульгайте. Все они играли хорошо, а им говорили — плохо. Только лишь я, не знаю почему, по мнению критиков, понял доктора Дорна «правильно». Это глупо, конечно: мы что, по московской схеме должны были играть? Просто нужно было раскритиковать спектакль. А как же иначе? Ведь премьера состоялась 21 марта 1954 года. Спустя месяц с небольшим после увольнения Мильтиниса.
Та часть критики, которая выражала официальное мнение чиновников, обвиняла нас в неправильном понимании Чехова еще и потому, что Мильтинис ставил спектакль не так, как это делалось в Москве. А требовалось ставить именно так, как хотели такие начальнички, как Маграчев и Сыкчин.
Но были и совсем иные отзывы о нашем театре. «Мильтинис действительно режиссер. И в основе всех лучших спектаклей лежит не что иное, как настоящая режиссура, большое и сложное, истинно современное искусство, состоящее из великого множества талантов и умений, — напишет Наталья Крымова в книге „Имена: рассказы о людях театра“ (М.: Искусство, 1971). — Способность выбрать пьесу, а потом художественно осмыслить ее, придав ей звучание такое ясное и точное, что годы лишь шлифуют спектакль, но не стирают его рисунка; умение придумать спектакль, от первой до последней секунды, но придумать не эффектную форму, а естественное и свободное его течение, предполагающее многие вольные притоки; потом еще способность вовлечь актеров в это течение, помочь им почувствовать себя так, будто оно, это течение, ими создано; и еще — придумать внешний облик представления, да так, чтобы бедность обернулась изобретательностью, в простоте было небрежное изящество и ни огромный труд, ни усилия ума не были заметны, будто все сделалось так, само собой… Все это лишь некоторые, далеко не все стороны того искусства, которым привлекает Паневежисский театр, и в частности пьеса Ибсена на его сцене».
Будучи выгнанным из театра, который сам же создал, Мильтинис, конечно, был обижен, хотя этого и не показывал. Ему хотелось быть в театре, работать, творить. И в 1957 году он нелегально начал репетировать ибсеновскую «Гедду Габлер». Эта пьеса не часто ставилась. Еще в Лондоне Мильтинис думал о ее постановке. Ибсен был одним из его любимых авторов, стоящих в одном ряду с Софоклом, Мольером, Шекспиром, Стриндбергом.
Мильтинис родился в деревне, но был аристократом духа. Гедда воспринималась им как своеобразный идеал: она, аристократка духа, попадает в мещанскую среду Тесмана и тети Юлии. Как ужасна для нее их мелочность! Она — дочь генерала Габлера, тонко чувствует поэзию. В начале спектакля есть такая сцена, где, подойдя к окну, Гедда возвышенно-поэтично произносит: «Осень… середина сентября…» На что Тесман прагматично и прозаично отвечает: «Да, да, осень, осень». Выходя замуж за Тесмана, она думала, что попадет в окружение интеллектуальных людей, а оказалась в мещанской среде. Тесман — хороший малый, но никудышный ученый. Профессором он стал, защитив диссертацию по бессмысленной теме — домашняя утварь в Средние века. Он человек примазавшийся, пользующийся положением жены — генеральской дочери. Для Гедды же неприемлемо то окружение, в котором она живет. Узнав, что Лёвборг выстрелил себе в грудь, она удивляется тому, что он так некрасиво закончил свой жизненный путь. И стреляет себе в висок.
Гедду играла Е. Шульгайте. А я играл Тесмана. Мой Тесман был с бородкой, в очках — «представляемый образ ученого». Мильтинис искал суть образа. Мне вначале было непонятно, чего режиссер от меня хочет. А он все был недоволен, и в итоге я просто растерялся. Стал спрашивать его, какой же, в конце концов, этот Тесман? На что Мильтинис отвечал: «Читай, что написал Ибсен. Ты читать не умеешь, что ли? Там все написано. Если бы я тебе показывал, ты бы подражал мне, а не создавал свое».