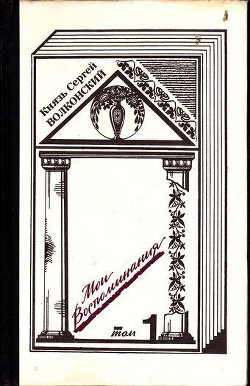Малиновская ничего мне не сказала. Перед тем она как-то раз выказала мне даже внимание. Когда узнала, как обошлись с моей библиотекой, она посоветовала написать Луначарскому и обещалась передать письмо. Она при этом сказала: "Все, что вы пожелаете, вам будет возвращено". Я написал Луначарскому, повторил слова Малиновской, но прибавил, что мне столько не надо, а раз предлагают мне вернуть, то прошу возвратить портрет моей матери; описываю портрет, который находится среди вещей, отобранных у меня и сваленных в Народном доме в городе Борисоглебске*. Письмо передал Малиновской... Оно осталось без ответа.
______________________
* Уже много позднее узнал, что портрет этот украшает канцелярию уездного наркомпроса, висит над столом комиссара, товарища Кралина.
Луначарскому я, таким образом, писал три раза: раз передавал, как обошлись с моими книгами, бумагами, тем, что стало принято называть "ценностями"; другой раз -- по поводу возвращения мне рукописи "Законов речи"; третий раз -- о портрете моей матери. Ответов я не удостаивался, но слышал, будто он кому-то сказал: "Никто мне не высказал столько истин, как Волконский". Раз и он пожелал выказать мне любезность. Во время одного заседания в ТЕО под председательством Луначарского подходит ко мне секретарша и шепотом передает, что "Анатолий Васильевич просит во время перерыва подойти к нему". Жду перерыва, подхожу. Он слышал про моих двух двоюродных братьев, Волконского и Чихачева, что они сидят в заложниках, и хотел бы за них похлопотать; просит написать ему их имена и пр. Я исполнил, но ничего из этого не вышло. Волконский Петр Петрович просидел девять месяцев.
Между прочим, он повредил себе забавной выходкой. В тюрьме (это еще было до перевода из Петербурга в Москву) идет перекличка:
-- Волконский!
-- Здесь!
-- Князь?
-- Светлейший.
Это ему дорого обошлось, но после девяти месяцев все-таки выпустили.
Судьба бедного моего троюродного брата Чихачева была много печальнее. Его в ноябре, в страшный холод услали без пальто в Нижний Новгород. Там, в тюрьме, он колол дрова, повредил себе глаз, схватил сыпняк и умер в тюремной больнице. Мы были с ним близки с двенадцатилетнего возраста. Прелестный человек, образованный, доктор Хейдельбергского университета... Луначарский ничего не сделал. Он поверхностный человек. Я уже год как знал, что моя рукопись утеряна, а он, заметив меня однажды в театре, кликнул мне вослед: "О вашей рукописи я сделал специальное распоряжение". Я сказал: "Спасибо за внимание", -- не мне же было ему объяснять, что его старания напрасны...
Малиновская тоже выказала участие к моим двум родственникам. Когда я сказал ей, что уже обращались и к Красикову, и к Каменеву, и к Луначарскому, она сказала:
-- Одного вы еще не попробовали.
-- Чего же? -- спросил я с поспешностью.
-- Обратиться ко мне.
-- Обращаюсь. Жалею, что поздно.
-- Никогда не поздно помочь.
-- Вам удавалось?
-- Часто.
Не знаю, она ли помогла или другой кто, но только относительно Чихачева уже было поздно: приказ об освобождении встретился с известием о смерти...
Малиновская по службе, говорят, была нервная, неровная; среди служащих царило иногда сильное возбуждение, но она не замечала. Она искренно верила в успешное шествие театрального дела и все повторяла: "Какие перспективы! Какие перспективы!" Каменева была известна тем, что разговоры деловые прерывала возгласами сочувственно-благотворительного характера. Секретарь ей докладывает, а она вдруг воскликнет: "Ах, у вас какие рваные сапоги! Я вам выпишу ордер на новую пару". В смысле театрального образования рассказывали совсем странные вещи: будто старую испанскую пьесу "Фуэнте овехуна" она предполагала ставить в японских костюмах...
Заседание, на котором Луначарский взял у меня сведения о моих двоюродных братьях-заложниках, было созвано для обсуждения и выработки программы балетного училища. Он открыл заседание, а потом совещание собиралось раза два в неделю без него. Участвовало человек двенадцать; времени потратили много, но разработали программу великолепно. Результат? Малиновская объявила, что русский балет имеет всемирную известность и потому нет никаких оснований вводить какие бы то ни было изменения в программу преподавания. Почему же они не сговорились раньше и почему мнение Малиновской оказалось сильнее Луначарского?
Еще с любопытным случаем противоречия здесь столкнулись. Жена Горького, вторая жена, Мария Федоровна Андреева, которая была та же Малиновская в Петербурге, прислала отзыв, в котором выражала мнение, что обучение балетному искусству с раннего возраста противоречит принципу "единой трудовой школы", по которому дети все должны получать одинаковое образование, специальности недопустимы в детстве, и только после пройденной "единой трудовой" может наступать разветвление, или, как выразился Луначарский с той убийственной страстью к иностранным словам, которою одержимы эресефесеровские люди, -- "полифуркация". Однако мнение Андреевой не было принято во внимание. Но самое любопытное то, что, в то время как комиссию торопили с выработкой программы, ввиду того что учебный год начинается, помещение театрального училища было занято военным лазаретом и никакой не было возможности, ни даже надежды добиться от военного комиссариата выселения его... А дезинфекция? А ремонт?.. Но громкие слова были сказаны, комиссия собиралась, программа выработана, шум на Москву и на Петербург... Разве не разрушительная чепуха?
Случай лазарета в помещении училища заставляет меня вспомнить, что подобные примеры захватов или, вернее, перехватов помещения одного ведомства другим случались на каждом шагу. В этом отношении "военком" имел преимущество перед прочими "комами". Наш Ритмический институт поместился в особняке бывшем Коровина в Малом Власьевском переулке; он осел там, огражденный всеми гарантиями Луначарского.
В одно прекрасное утро является какой-то полевой штаб и объявляет, что имеет ордер на этот дом. Штыки, кратчайший срок, караул, все как следует. Никакие хлопоты не помогли -- пришлось выселяться. Только благодаря энергии нашей директрисы Нины Георгиевны Александровой Луначарский взялся за дело и отвоевал помещение обратно. Но полтора месяца учебное заведение бездействовало, и когда мы снова вошли в дом, мы нашли, что все, что можно было отвинтить, было отвинчено, все, что можно было отодрать, было отодрано и почти все, что можно было унести, было унесено, между прочим все книги, специальная библиотека по вопросам ритма, которую мы с большим трудом собрали из частных рук по Москве... Когда обратились в учреждение, ведающее междуведомственные столкновения, ответили, что раз при сдаче не было описи, то ничего нельзя сделать. Какая же опись при захвате?..
Ничего не могло быть противнее, как выселение. Ни отобрание имущества, ни арест не вызывали такого внутреннего отпора, как это требование оставить помещение. И наивные люди при каждом известии о том, что такого-то выселяют, спрашивали: "куда?" Так и не могли привыкнуть к тому, что единственный вопрос, на который можно в данном случае ответить, -- "откуда?", а никак не "куда?"
Да, ничто не может быть унизительнее выселения, и ничто не сравнимо с оскорбительностью приемов. К нам в квартиру в Шереметевском переулке однажды явился в папахе какой-то из управления кремлевскими домами для вселения в наш дом. Меня не было дома. Жил я тогда в конце коридора, в комнате с одним окном во двор; раньше я имел две комнаты на солнце, одна была проходная, но меня выселили, чтобы поместить супругов. Это понятно; только жаль мне было уходить из комнаты, где было фортепиано. После того люди мне говорили: "Как же вы согласились? Ведь вы, как профессор, дающий уроки, имеете право на две комнаты, вы имеете право на фортепиано..." Как смешно было слышать при тех всем известных условиях жизни пустозвонное слово "право". Право? Сами посудите. Человек в папахе обходит квартиру: