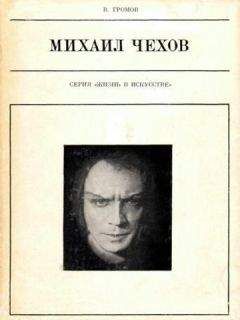Не удержался от такого вопроса и я. Меня особенно волновал и интересовал первый выход Эрика. Он был необыкновенно стремительным, острым, подчеркнуто четким. Его нельзя назвать выходом актера на сцену, первым появлением действующего лица: это был выстрел, взрыв или, вернее, удар молнии. Он ошеломлял. Казалось, актер мог бы так выйти на сцену в третьем или четвертом акте, в какой-то самый кульминационный момент своей роли. Кроме того, было непонятно: если так начать роль, то как же дальше добиться нарастания? Обо всем этом я и спросил Михаила Александровича. Его ответ запомнился мне на всю жизнь:
— Никогда не жалей себя! Уже в первом выходе на сцену постарайся внутренне именно как бы «выстрелить» в публику всем, чем ты богат в этой роли, всей самой глубокой взволнованностью по отношению к действующему лицу!.. И не думай, откуда взять силы на последующее нарастание роли: кто холодно и скупо рассчитывает свои силенки, тот, во-первых, нищ душой, а, во-вторых, сам себе подрезает крылья. Наоборот, если, не жалея себя, ты отдашь максимум сил, темперамента, мыслей и чувств в самые первые моменты роли, то с удивлением и восторгом почувствуешь, как вся твоя актерская натура будет рождать новые, свежие, неожиданные краски, и на них (а не на примитивном прямолинейном крещендо) построится разворот, эволюция, полет роли.
В образе Эрика Михаил Александрович особенно последовательно держался этого принципа, не отступал от него, был ему верен, начиная от первой репетиции и кончая последним спектаклем.
Молодыми, неопытными и взволнованными пришли мы на репетиции «Эрика XIV».
«Мы» — это «чеховцы» и «вахтанговцы», ученики студии Чехова и студии Вахтангова. «Молодые», потому что был 1920 год, а мы были почти ровесники XX века. «Неопытные», потому что впервые нас допустили к участию в спектакле на профессиональной сцене. Взволнованы же мы были очень многим.
... Маленькая сцена, без подмостков, застланная толстым «солдатским» сукном, находилась на том же полу, что и первые ряды партера. На такой сцене почти восемь лет назад, в маленьком зале на Тверской, был показан спектакль «Гибель “Надежды”». Так же устроена сцена и здесь, в помещении Первой студии на Советской площади. Об этой слиянности сцены и зрительного зала мы знали и неоднократно читали в рецензиях, но тут ощутили ее особенно остро. На такой сцене актер должен быть предельно правдив и убедителен, чтобы увлечь зрителей, сидящих буквально рядом с ним. И нам предстояло выйти на эту сцену — правда, в очень скромной роли участников народных сцен — в последней картине спектакля, но играть рядом с актерами виртуозной внутренней техники. Нашему трепещущему «стаду» для бодрости и организованности был придан «пастух» или вожак (называйте как хотите!), А. И. Благонравов, один из молодых актеров Студии МХАТ.
До того как подошла наша сцена, мы могли сидеть в зрительном зале. Тут мы увидели и услышали многое, поразившее нас и запомнившееся навсегда.
Евгений Богратионович репетировал больной. Он сидел за режиссерским столиком, все время прижимая к телу грелку. Он старался победить боль и активно вел репетицию. Вот он подозвал к себе одного из ведущих актеров и раскритиковал его игру. Тот стал ссылаться на какие-то художественные «сложности» и «тонкости» своей роли, но Вахтангов властно остановил его:
— Не надо, Борис! Не мудрствуй! Я, как «театральный врач», скажу: в этой сцене у тебя просто нет необходимого острого внимания!
Такое гениальное разрубание узла актерских «сложностей» и «тонкостей» я вспоминал потом всю жизнь.
Не менее удивительное творилось на сцене. Там уже стояли оригинальные декорации художника И. И. Нивинского: холодные, серые с серебром колонны королевского замка, смело прочерченные скульптурными углами и зигзагами. Две ступеньки с заднего плана на передний. И на них — Чехов в парчовом серебряном костюме. Актер, видимо, привыкал к этому трудному, очень узкому, почти сковывающему его костюму.
Диалог между Чеховым — со сцены — и Вахтанговым — из-за режиссерского стола — был так же удивителен: вполголоса, сосредоточенно они обсуждали, казалось бы, простой вопрос — когда именно надо Эрику подняться на ступени заднего плана, до какой реплики остаться там и когда снова перейти на передний план. Но их сосредоточенность давала ясно чувствовать, что два больших художника обсуждают детали, чрезвычайно важные для самой трагической, последней картины спектакля.
Шаг за шагом узнавали мы, как пьеса Стриндберга преобразилась в спектакле Первой студии МХАТ, приобрела четкие кованые формы.
Исторические драмы Стриндберга — «Энгельбрект», «Густав Ваза», «Эрик XIV», «Королева Христина» — связаны между собой, а «Густав Ваза» является предысторией «Эрика XIV»: там на фоне жестоких, кровавых событий мы встречаем уже и Эрика, и Иёрана Персона, и Карин, и Агду.
Все эти драмы, кроме «Эрика XIV», наиболее понятны читателю, хорошо знающему историю Швеции XIV века, религиозные распри того времени и войны из-за Унии, то есть объединения Швеции, Норвегии и Дании.
«Эрик XIV» резко выделяется глубокими социальными и острыми психологическими темами. В постановке Вахтангова на первый план выступила философия истории, и зрители напряженно следили за трагической судьбой Эрика, погибавшего от ненависти и мертвящего холода его мачехи, вдовствующей королевы, от жестокого коварства герцога Иоанна, от надменного презрения знати, во главе с семьей Стуре, и всех придворных.
Трудно коротко рассказать содержание пьесы: она полна резких контрастов и неожиданных поворотов сюжета, оправданных тем, что с начала действия мы видим события уже в кульминации.
Вот почему Михаил Александрович был особенно прав, говоря, что даже первый выход Эрика (и, конечно, каждого действующего лица) должен здесь быть подобен выстрелу, должен быть переполнен всем, что накоплено в пережитые годы интриг и кровавой борьбы за власть.
Начинался спектакль так: на сцене дочь старого солдата Монса, Карин, любовница Эрика. У нее от Эрика двое детей. За это ее ненавидят отец и мать. Они готовы убить ее. Улучив минуту, Карин расспрашивает о них прапорщика Макса, которого она любила когда-то. Расспрашивает, почти рискуя жизнью, потому что Эрик поблизости и может все видеть и слышать с верхнего балкона (за кулисами). Оттуда он бросает в Макса пригоршнями большие гвозди. А когда Макса сменяет на сцене Иёран Персон, в него летит молоток, горшок с цветами и, наконец, груда подушек.
Эти безумные выходки, восклицания из-за кулис и громкий нервный смех уже заставляли ждать необыкновенное появление. И вот Эрик молниеносно, стремительно появляется слева. Как вкопанный останавливается точно посередине сцены, лицом в зрительный зал.
Лицо, словно из белого мрамора, только лихорадочное пятнышко румянца на одной щеке да брови, изломанные зигзагом. Темные волосы, зачесанные вперед, короткие по бокам и сзади. Светлые глаза кажутся бездонными, остановившимися. В них и измученность и ожесточенность; и решимость и робость; и непреклонная властность и паническая растерянность перед грядущими ударами судьбы.
Так, продолжая глядеть только прямо перед собой, протягивает он Карин руку для поцелуя; так отдает приказ впустить ювелира с новой короной. Речь его быстра, отрывиста, коротка, похожа на удары хлыста. Жесты его тоже хочется назвать отрывистыми, короткими. Даже, когда, увидев корону — высокую, как тиара, и витиеватую по рисунку, он хочет выразить свое удовольствие, его три-четыре хлопка в ладоши сухи, холодны, почти механичны.
Все это происходит в напряженной, пугающей тишине. И вдруг, когда Карин пробует мягко отказаться примерить корону, резкий, пронзительный вскрик: «Повинуйся!!» — прорезывает тишину. Карин повинуется, хотя корона предназначается Елизавете Английской, к которой сватается Эрик. Вот почему, среди прочих украшений, на короне изображен «шведский лев, который лежит у ног английского леопарда». Эрик мечтает этим браком укрепить свое королевство.
По заднему плану сцены медленно проходит вдовствующая королева, мачеха Эрика, его смертельный враг. Вся в черном, о белым как мел лицом, одноглазая, страшная, как привидение (незабываемое сценическое создание С. Г. Бирман).
Вскипев ненавистью, Эрик — Чехов отворачивается от нее, смотрит прямо в зал и в ответ на ее шипящие, змеиные реплики «выстреливает» раздраженные, дерзкие ответы. А после ее ухода вдруг, при появлении герцога Иоанна Рыжебородого (еще более страшного врага), Эрик совершает сумасбродный поступок, тем более странный, что его слова звучат так:
— Брат мой! По зрелом размышлении я решил ответить согласием на твое желание. Екатерина Польская будет твоей женой! ... Не забудь же... ты будешь обязан своим могуществом члену дома Ваза!