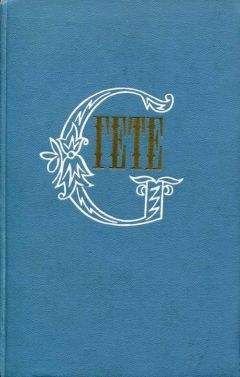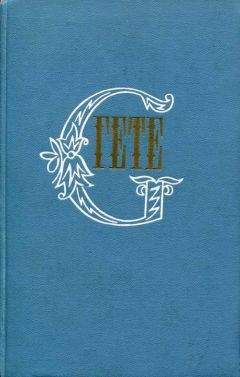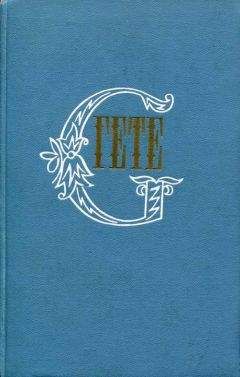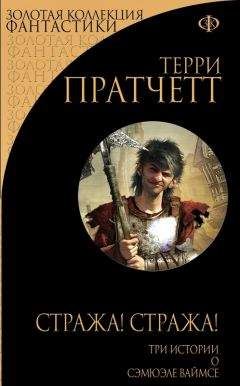Вейслинген. Пожалуйста, оставьте меня одного.
Гец. Но отчего же? Успокойтесь, прошу вас. Вы в моей власти, а я не злоупотребляю ею.
Вейслинген. Этого я и не боюсь. Ведь это ваш рыцарский долг.
Гец. И вы знаете, что он священен для меня.
Вейслинген. Я в плену, остальное мне безразлично.
Гец. Вы не должны так говорить. Если бы вы имели дело с князьями, они б посадили вас на цепь в глубоком подземелье и сторож не давал бы вам уснуть своими свистками.
Входят слуги с платьем. Вейслинген переодевается. Входит Карл.
Карл. Доброго утра, отец!
Гец (целует его). Доброго утра, мальчуган. Ну, что ты поделывал?
Карл. Я очень хорошо вел себя, отец! Тетя сказала, что я умница!
Гец. Вот как!
Карл. Ты мне привез что-нибудь?
Гец. На этот раз не привез.
Карл. А я много учился.
Гец. Да ну?
Карл. Хочешь, я тебе расскажу о добром мальчике?
Гец. После обеда…
Карл. А я еще кое-что знаю.
Гец. Что б это было?
Карл. Якстгаузен — селение и замок на Яксте — уже двести лет принадлежит господам фон Берлихингенам по праву наследия и собственности.
Гец. А ты знаешь господина фон Берлихингена?
Карл в недоумении смотрит на него.
(Про себя.) Он, пожалуй, от большой учености и отца не признает. Кому принадлежит Якстгаузен?
Карл. Якстгаузен — селение и замок на Яксте…
Гец. Я не об этом спрашиваю. Я знал каждую дорогу, каждую тропинку, каждый брод, прежде чем узнал, как зовется река, селение и замок. Мать на кухне?
Карл. Да, отец. Она готовит брюкву и баранину.
Гец. Ты и это знаешь, кухонных дел мастер?
Карл. А мне тетя на сладкое испекла яблоко.
Гец. А сырого ты не можешь съесть?
Карл. Так вкусней.
Гец. Тебе всегда надо что-нибудь особенное. Вейслинген! Я сейчас вернусь к вам. Мне все-таки надо повидать жену. Идем, Карл.
Карл. Это что за человек?
Гец. Поклонись ему, попроси его быть повеселее.
Карл. Эй, человек! Право, развеселись! Скоро обед поспеет.
Вейслинген (берет Карла на руки и целует). Счастливое дитя! У него одна печаль, что суп запоздал. Дай бог, чтоб мальчик этот доставил вам много радостей, Берлихинген.
Гец. Где ярче свет, там гуще тени, но я и на это согласен. Ну, пойдем, посмотрим, как там.
Они уходят.
Вейслинген. О, если б я проснулся и все оказалось бы сном! Во власти Берлихингена! Я едва освободился от него, я как огня боялся мысли о нем, я надеялся его одолеть. А он — прежний, верный Гец! Боже правый, чем все это кончится? Вот ты и вернулся, Адельберт, в ту залу, где мы играли детьми, ты дорожил им тогда, ты любил его, как душу свою. Кто может, приблизясь к нему, ненавидеть его? Ах! Я чужой здесь. Ты прошло, счастливое время, когда у камина еще сидел старый Берлихинген, а мы играли вокруг него и любили друг друга, как ангелы. Как будет беспокоиться епископ и мои друзья! Я знаю — вся страна сочувствует моему несчастию. Что мне в том! Разве они могут мне дать то, к чему я стремлюсь?
Гец (с бутылкой вина и кубками). Пока еда будет готова, мы выпьем. Идите сюда, садитесь, будьте как дома! Подумайте, ведь вы снова у Геца. Давно мы уже не сиживали вместе, давно вместе не осушали бутылки. (Подносит ему.) Ну, с легким сердцем!
Вейслинген. Те времена прошли.
Гец. Боже сохрани! Правда, нам не дождаться лучших дней, чем те, когда мы были неразлучны днем и ночью при дворе маркграфа. Я с радостью вспоминаю мою юность. Вы еще помните, как я повздорил с поляком, когда нечаянно заехал рукавом в его завитые и напомаженные локоны?
Вейслинген. Это было за столом, и он бросился на вас с ножом.
Гец. Я тогда здорово отколотил его, а вы из-за этого поссорились с его приятелем. Мы всегда честно держались заодно, как и подобает добрым и смелым ребятам. За это все и признавали нас. (Наливает и подносит ему.) Кастор и Поллукс! Сердце мое всегда радовалось, когда маркграф так называл нас.
Вейслинген. Это придумал епископ Вюрцбургский.
Гец. Он был ученый муж и добрейший человек вместе с тем. Я до конца жизни буду помнить, как он ласкал нас, как хвалил наше единодушие и звал счастливым человеком того, который был близнецом его друга.
Вейслинген. Довольно об этом!
Гец. Почему же? После трудов для меня нет ничего приятнее воспоминания о прошлом. В самом деле, подумать только, что мы делили когда-то радость и горе, были всем друг для друга! Я воображал, что так будет всю жизнь! Когда при Ландсгуте я лишился руки, разве не было моим единственным утешением то, что ты ходил за мной и заботился обо мне больше, чем брат родной. Я надеялся, что в будущем моей правой рукою станет Адельберт. А теперь…
Вейслинген. О!
Гец. Если б ты послушал меня и поехал вместе в Брабант, когда я звал тебя, все осталось бы по-старому. Тебя удержала эта несчастная придворная жизнь, тебе понравилось слоняться без дела и расшаркиваться перед женщинами. Я всегда говорил тебе, что если ты будешь водиться с пустыми, противными бабами и болтать с ними о неудачных браках, об обольщенных девушках, о мозолях и вообще обо всем том, что им любо слушать, то ты станешь шалопаем, Адельберт, я всегда это говорил.
Вейслинген. К чему все это?
Гец. Видит бог, я б хотел или забыть все, или чтобы это было не так. Свободой и благородством рождения ты равен лучшим сынам Германии, ты независим, ты подчинен лишь императору, зачем же ты принижаешь себя до уровня вассала? Что тебе епископ? Он сосед твой? Он может напасть на тебя? А разве у тебя нет рук, нет друзей, чтобы отплатить ему? Ты забываешь свое достоинство свободного рыцаря, который зависит лишь от бога, императора и самого себя! Ты из кожи лезешь вон, чтобы занять место придворного шаркуна при своенравном и завистливом попе!
Вейслинген. Позволь мне сказать.
Гец. Что ты можешь сказать?
Вейслинген. Ты смотришь на князей, как волк на пастухов. И все-таки посмеешь ли ты порицать их за то, что они защищают свои владения и достояние своих подданных? Разве они хоть на мгновение бывают в безопасности от рыцарей-самоуправцев, которые нападают на их подданных у каждого перекрестка, опустошают селения и замки? С другой стороны — земли дражайшего императора нашего находятся по власти заклятого врага; император требует помощи от всех сословий, а они едва могут защитить свою жизнь. Разве не добрый гений внушает князьям желание подумать о средствах успокоить Германию, водворить право и справедливость, дать всем — и большим и малым — возможность наслаждаться выгодами мира? И ты нам ставишь в вину, Берлихинген, что мы ищем защиты у них, чья помощь нам ближе, нежели далекая от нас императорская власть, которая не в силах защитить себя самое.
Гец. Да! Да! Все понятно! Вейслинген, будь князья такими, какими вы их изображаете, то у нас было бы все, чего мы жаждем. Покой и мир! Я думаю! Их жаждет и хищная птица, чтоб на свободе пожирать добычу. Всеобщее благо! Ну, от этой заботы они не поседеют! А какую непристойную игру ведут они с нашим императором. Намерения его прекрасны, и стремления его еще лучше. И вот что ни день — является новый знахарь и предлагает лечить так и эдак. А так как господин наш все быстро схватывает и ему достаточно слово сказать, чтоб тысячи рук пришли в движение, то он и воображает, будто выполнит все так же легко и быстро. И вот издается приказ за приказом, и все они тут же забываются, а что князьям на пользу, того они и держатся и прославляют спокойствие и безопасность империи, попирая ногами меньшую братию. Готов поклясться, что кое-кто в глубине души благодарит бога за то, что турок наседает на императора.
Вейслинген. Вы смотрите на это по-своему.
Гец. Так поступает каждый. Вопрос в том, на чьей стороне свет и правда, а ваши дела, говоря мягко, боятся дневного света.
Вейслинген. Вы все можете говорить, я — пленник.
Гец. Если совесть ваша чиста, вы — свободны. Но как обстояло дело с договором о земском мире? Я помню, как еще шестнадцатилетним мальчиком я был с маркграфом на сейме. Сколько князья там горланили, а духовные владыки — больше всех! Ваш епископ все уши прожужжал императору, будто чудо свершилось, и он вдруг всем сердцем возлюбил справедливость; а теперь он захватил моего оруженосца в ту пору, когда ссора наша уладилась и я не помышлял о зле. Разве мы не помирились? На что ему оруженосец?