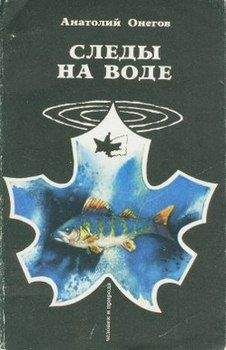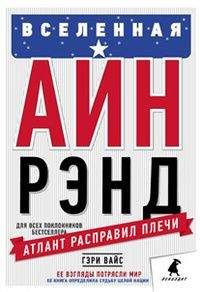Анатолий Олегов
Пелусозеро
Долгое озеро, Круглое озеро, Щучье озеро – как просто и ясно звучат эти имена. Но вот рядом с Долгим, Круглым и Щучьим вдруг появляются Айн-, Корб-, Пелусозеро, и ты останавливаешься в недоумении, как перед неразгаданной тайной.
Видимо, и с Айнозера, и с Корбозера, и с Пелусозера в общем-то не так сложно снять эту таинственность, рожденную непривычным для русского человека звучанием их имен. Для этого, наверное, достаточно взять словарь того народа, который давал своим озерам эти звучные имена, и все сразу станет на свои места. И тогда, возможно, и Айн-, и Корб-, и Пелусозеро предстанут перед тобой так же обыденно просто, как Долгие, Круглые и Щучьи озера.
Но мне, честное слово, не хочется этого делать, не хочется заглядывать в словарь, который совсем рядом, – пусть живут они, эти удивительно красивые северные имена, пусть живет и зачаровывает других людей их таинственно-романтический ореол.
Поэтому я и не знаю, что означает слово «пелус» – Пелусозеро, чем было оно, это озеро, для тех людей, которые первыми пришли сюда и дали этому водному пространству, круто обрамленному высокими лесистыми берегами, его настоящее имя…
На берегу Пелусозера я провожу второе лето. Я точно знаю, сколько у этого озера островов, знаю имена этих островов, лесистых, высоких, отгородившихся от воды густыми рябинами, которые к осени широко и ярко разгораются гроздьями ягод. И тогда кажется, что эти острова кто-то поджег, но поджег не буйно, не разрушительно, а каким-то необыкновенным, тихим огнем, которому положено не уничтожать все окружающее, а только ярко и добро светить осенней воде и редким рыболовам, что являются по осени к островам.
Я точно знаю, где у этого озера самые глубокие места, знаю, где его подводные вершины-луды. Знаю, что в этом озере водятся большущие окуни – только вчера мой сосед привез такое страшилище в роговых рыцарских латах и с трудом оценил его вес на пятикилограммовом безмене. Я знаю, что поймать таких гигантов не так уж сложно, если каждый день пускать с луд на глубину сети. Но я очень хочу поймать самого большого окуня Пелусозера на обычную зимнюю удочку, оснащенную тонкой леской, с небольшой желто-белой мормышкой.
Это знаменитая мормышка. Она служит мне уже не одно лето. Ее подарил мне друг-рыболов, который искусно делает такие миниатюрные игрушки из меди, латуни, серебра и олова, раздобывая для них самые лучшие крючки из самых лучших рыболовных стран. Это не мормышка, а произведение искусства – она сделана художником. И я берегу ее. И только с ней выезжаю на луды и мысы северных озер, куда может явиться в своем разбойном походе самый крупный окунь.
Сейчас на луде в ожидании окуней я снова и снова вспоминаю те озера, где летом, вооружившись зимней удочкой с мормышкой, разыскивал окуней… Укшозеро, Викшозеро, Кенозеро… И окуни были там, упорные и тяжелые. И они, как всегда, являлись вдруг и так же вдруг исчезали, унося с собой тайны своих троп-дорог. И вот теперь Пелусозеро, та же удочка, та же мормышка, и снова я ищу ответы на вопросы, которые задают мне эти полосатые рыбы…
Первых окуней Пелусозера я отыскал у острого мыса Бодунова острова. Это было в самом начале июня. В борах белым легким огнем занялась брусника, а по моховым язычкам, что выбились из-под сосен к воде, дурманяще полыхал цветущий багульник. В это время к берегу, где цвел багульник, было опасно приставать – багульник пьянил, тянул к себе и пьянил. И после каждой такой встречи долго болела голова…
На Бодунове острове багульник не рос. Когда-то здесь по всему острову были покосы, а теперь их место заняли березы, осины и рябины, сплошь перевитые малинником. Вот от такого березово-осиново-рябинового мыска и отхои дал в глубину каменистый язык, отходил неторопливо, постепенно опускаясь в воду. Северное лето еще только-только начиналось, и над камнями мыска еще не успел подняться из воды тростник – его белесоватые лобеги лишь выбились из-под камней и теперь тянулись вверх, к свету, к солнцу, оставаясь пока там, в озере.
Здесь, у каменистого мыска, я и опустил первый раз якорь своей лодки. Один якорь опущен с носа, другой – с кормы. Подо мной метра четыре еще холодной после долгой и крутой зимы озерной воды. Вода еще по-зимнему прозрачна, и я хорошо вижу все, что делается на глубине… Вот моя мормышка медленно опускается вниз: метр, другой, третий – и тут беленькое пятнышко мормышки исчезает… Удар, подсечка – и в лодке первый пелусозерский окунек, не дождавшийся, когда кусочек червя, насаженный на крючок, вместе с мормышкой опустится на дно.
Окунек не очень большой – чуть больше ладони, но резв и боек. И он голубой, как всякая глубинная рыба чистых и холодных озер севера.
И снова мормышка опускается на дно. И снова я слежу за ней. Вот блеск от серебряной точечки все слабее и слабее – мормышка уходит на глубину и наконец достигает дна. А потом все как зимой. Удочка удобно легла в правую руку, сторожок, чуть присогнувшись, потянул за собой леску. Раз-раз-раз – покачивается сторожок. И следом за сторожком там, на четырехметровой глубине, – раз-раз-раз – покачивается у самого дна мормышка. Выше сторожок – выше мормышка. И снова – раз-раз-раз. Потом неторопливая, но решительная потяжка вверх – ты хочешь показать рыбе, что сейчас возможная добыча уйдет от нее. Торопись, окунь, дальше будет поздно! Но никто не бросается за исчезающим бело-желтым шариком, и мормышка, будто устав покачиваться и убегать, опускается на дно. Я знаю, что сейчас, упав на дно, она поднимет вокруг себя пусть крошечное, но все-таки облачко ила…
И снова – раз-раз-раз… И тут тупо и жестко, как удар коряги, что-то зависает на крючке… Если бы я уже знал дно, если бы я знал, что никаких коряг тут нет, то, конечно, тут же ответил бы на удар рыбины подсечкой. Но я вдруг побоялся ответным рывком совсем засадить драгоценную М ормышку в корягу.
Взаимное замешательство длилось какое-то мгновение. Первым из состояния шока вышел окунь и резко пошел вниз по свалу на глубину… О, слава тебе, гибкий пластиковый кончик! О, слава тебе, голубоватая лесочка ноль пятнадцать, тоже, как и мормышка, подаренная мне моим другом-художником! Вы выдержали этот первый рывок!.. А дальше проще. Дальше из шока выхожу уже я и начинаю, хотя пока и очень деликатно, диктовать рыбине свои условия… И она, эта рыбина, наконец появляется возле лодки, но чуть в стороне – метрах в двух от борта. Подсачек ее не достанет… Движение в лодке, и рыбина снова уходит резко вниз, увлекая за собой всю леску и упрямо требуя в глубину и мою удочку…
И снова я заставляю окуня подняться к поверхности. Теперь он всплывает ближе к борту. Я пытаюсь перебирать леску руками, чтобы поближе подвести рыбину, но снова полосатый гренадер скрывается в глубине.