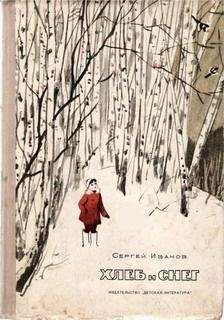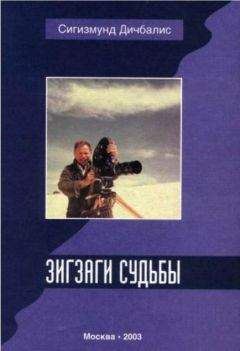Идёт Таня по улице, рассматривает дома, словно в первый раз их видит. «А ведь правда, — думает она, — все дома на своих хозяев похожи! Как хорошо, что я это заметила!»
А вот на бугре, немного поодаль, немного в стороне от всех, стоит большой дом, может быть, самый большой во всей деревне. И сложен он из крепких брёвен. Но брёвна эти потемнели, постарели, дом осел и покосился в сторону овражка. Как будто были здесь хозяева, а теперь уехали и оставили дом без присмотра. Кругом снег лежит нетронутый, и только совсем узенькая тропка ведёт от крыльца на широкую деревенскую улицу. Таня никогда в этом доме не была и не знает, кто здесь живёт… Да и живёт ли кто-нибудь? Ступает она по узкой тропке, словно канатоходец по канату, как-то боязно… Нет, смотрит, живут: вон из трубы-то дым идёт, приветливо виляет по ветру, как собачий хвост…
Вдруг дверь заскрипела, раскрылась. Видит Таня: на крыльце стоит старуха — высокая, строгая, в белом платке. А волосы ещё белее платка.
— Здравствуйте, — говорит Таня робко.
— Здравствуй, девушка. Зачем ко мне пожаловала?
Таня не удивляется, что её девушкой назвали. Так здесь всех девочек называют. Но страшно Тане, что спрашивают её таким строгим голосом. Она не знает, как ответить, и вдруг неожиданно говорит:
— Я в гости…
— В гости?.. Ну дак заходи.
И вот поднимается Таня на высокое крыльцо, вслед за старухой проходит тёмные сени, входит в дом.
— Дверь-то получше закрой, — говорит старуха.
И Таня двумя руками тянет тяжёлую, неподатливую дверь.
Домов таких Таня в деревне больше не видела. Весь он — одна огромная комната. Видно сразу всё! Все четыре стены. Две глухие, а в двух прорублены небольшие окна — чтоб зимою тепло зря не выпускать. У стен, на белом выскобленном полу, стоят большие деревянные сундуки. А посредине огромный стол, тоже белый, выскобленный, как пол, и здоровые деревянные лавки вокруг него.
— Ты чья же будешь? — спрашивает старуха.
— Я председателя Банникова внучка.
— А зовут как?
— Таня.
— Ох ты! — Старуха вдруг улыбнулась. — А ведь и я Татьяна!.. Ну, садись, Таня. Я чай пью, и ты попей.
Старуха достала большую чашку, налила из блестящего жёлтого самовара кипятку, подлила из маленького чайничка чаю.
— Баранку хочешь? — даёт Тане баранку.
В сахарнице мелко наколот сахар. Сидят они за огромным столом, смотрят друг на друга, как через площадь.
— Что ж молчишь? — говорит старуха. — Расскажи, откуда приехала.
— Из Москвы.
— Из Москвы-и? Далёко!.. А долго ли гостить станешь?
— Долго… — Таня вздыхает. — Целый год.
— Верно, долго, — говорит старуха. — Что ж в Москве не жилось?
— Мама и папа уехали, а меня сюда. Они полярники.
— Уехали? — переспрашивает старуха. — Вот и у меня уехали. Четыре сына да и муж.
Старуха молчит, задумавшись, а Таня отхлёбывает чай и осматривается. В углу висят тёмные-тёмные картины. Таня уже знает: это иконы, о них спрашивать не надо. А рядом в большую рамку за стеклом вставлено много разных фотографий — маленьких, чуть покрупней. Они уже все старые, пожелтелые. Скоро уж совсем тёмные станут, как иконы.
— Что смотришь? — спрашивает старуха. — Фотки?.. Это вот они и есть — сыны мои да и муж.
Старуха подымается, идёт к рамке с фотографиями, и Таня за ней.
— Вот они. — Старуха показывает пальцем на фотографию.
Пятеро мужчин и женщина сидят за тем же большим белым столом и внимательно смотрят на Таню.
— Это вот старший, Николай, — говорит старуха, — это второй — Фёдор, это третий — Илья, это самый младший — Гриша. А это муж мой — Иван Николаевич.
Таня приглядывается к старой фотографии:
— А это вы, бабушка Таня?
— Я.
— Какая вы молодая!
— Да уж сколько времени прошло! И молодая пожила, и пожилая побыла, теперь старая стала.
— А куда ж они уехали?
— А на войну.
— На войну?!
— На войну… Уехали да вот и не вернулись.
Таня смотрит в окно — на медленно падающий крупный снег. Потом опускает глаза и видит белёсый выскобленный пол. Чёрная щель в полу расплывается, расползается перед её глазами…
— Чего ж ты? — говорит старуха. — Не плачь!
А Тане очень жаль её. И очень горько оттого, что вот только что на фотографии они сидели всей семьёй за столом, уставленном закусками и бутылками. И вдруг всё пусто. В доме только старуха да Таня… Война!
— Не плачь, за них уже вдоволь выплакано! — Старуха гладит Таню по голове, рука у неё жёсткая, как гребёнка, — Я уж за них и пенсию получаю. Раньше не хотела брать. Что же, говорю, за живых пенсию получать!.. А теперь получаю…
Дома Таню ждут не дождутся!
— Где ж ты была? — притворно сердится дед.
— Просто была, — отвечает Таня, — гуляла.
Ей сейчас не хочется ни о чём рассказывать.
— Гуляла, — ворчит дед. — Пока ты гуляла, отец твой посылку прислал. С самого, пишет, Северного полюса!
Дед ставит на стол ящик, полный рыжих апельсинов.
— На! — Бабушка подаёт ей самый большой апельсин… апельсинище. Он толстокожий, бугристый и тяжёлый.
— Можно, — спрашивает Таня, — можно, я отнесу его бабушке Тане из большого дома?
— Снеси, — тихо говорит дед, — конечно, снеси!
Хорошо идти по весенней лесной дороге. Сейчас, утром, она тверда и чисто выметена молодым морозцем. Умная ворона поглядывает на Таню с голой ветки, а больше ни птицы, ни ветерка — тишина. Только звучно раздаются собственные Танины шаги: ледок скрипнет, хрустнет примёрзшая к дороге ветка. Звуки эти быстро улетают в глубины леса, туда, где жёсткой пеной лежит старый снег и небо разрезано ветвями на многое множество синих окошек.
Таня идёт по этой дороге не просто так, не для прогулки. Она несёт записку на птицефабрику. Вчера после ужина дед спросил:
— Знаешь дорогу на Ульяновку?
— Знаю, — ответила Таня, — мимо кузницы, через лес.
— Что, никак, уж ходила туда?
— Алёна сказала.
— Ну так найдёшь?
Таня кивнула.
— Далеко, — покачала головой бабушка, — далеко ей одной-то будет.
— Километр только и есть всей дороги! — Дед уже писал ту самую записку. — Километр с хвостиком, ну, в общем-целом, верста…
Лес кончился. Впереди было поле, покрытое прошлогодней травой и клоками снега. А дорога прямёхонько вела в деревню Ульяновку. Было в ней всего несколько изб. А немного сбоку стояла птицефабрика — длинный-длинный одноэтажный дом под шиферной крышей. Такой он был длинный, что на одной стене в ряд уместилось двадцать или тридцать окошек. Тут уж перепутать что-нибудь очень трудно!