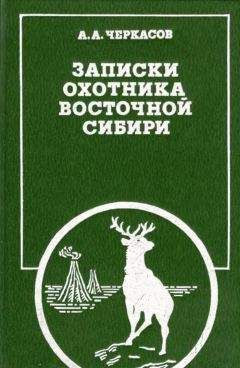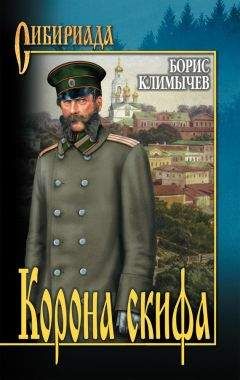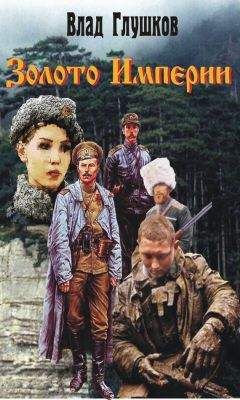Зная епископа Евсевия как светлую и образованную личность, в чем я имел удовольствие убедиться лично, принимая и чествуя такого дорогого гостя в своей квартире в 1857 году, в Култуминской руднике, мне крайне хотелось слышать из его уст о случившейся с ним оказии, но владыке подали лошадей, он заторопился, подарил мне несколько экземпляров книг своего сочинения, благословил, как сына, и уехал далее по своей бесконечной епархии.
Не предугадывая финала так интересно начатого рассказа, сколько раз я потом ругал себя за то, что не смекнул и не задержал подачу лошадей, а это было возможно, потому что вполне зависело от меня, как пристава рудника: стоило только, под видом поторапливания запряжки, выскочить из комнаты и шепнуть кому следует, — значит, не судьба!
XI
Все еще останавливаясь на жизни в Лунжанках, мне желательно познакомить читателя с одним довольно курьезным казусом, случившимся со мной на охоте. Хотя я и говорил о нем в своих «Записках охотника», но полагаю, что не все собраты по ружию с ними знакомы, а потому позволю себе повториться, чтоб охарактеризовать те случайности, которые возможны в Сибири, а тем более в «каторге», где всегда необходимо держать ухо остро, чтоб быть готовым на всякую встречу.
Однажды ходил я рано утром по небольшой, но густо заросшей падушке и высматривал козуль, начавших гоньбу (течку). Утро было ясное, жаркое. Тут мне удалось увидеть одного гурана, который гнал матку и юркнул в кусты саженях в семидесяти выше меня. Я поторопился и побежал к тому месту, как вдруг, не пробежав и 15 сажен, услыхал шорох в кустах, и мне показалось, что там кто-то шевелится. Я остановился, быстро приготовился к выстрелу, но стал прислушиваться и вглядываться в то место, где мне что-то «помаячило», по выражению зверовщиков. Долго стоял я в таком положении, не мог узнать причины шороха и хотел уже идти далее, как шорох послышался снова, и я увидел в кусту, над самой землей, что-то зашевелившееся. Я приложился и хотел уже выстрелить, но остановился, чтоб, хорошенько высмотрев зверя, вернее посадить пулю. Призрак опять пошевелился, — и я снова приложился и опять не выстрелил по той же причине.
Наконец, я увидал что-то белое у шевелящегося предмета, который был от меня не далее 20 сажен. Меня это поразило, я тотчас опомнился и стал обдумывать, какой бы это был зверь. Но, быстро передумав, сообразил, что летом ни у одного зверя нет ни одной части белого цвета. Я невольно содрогнулся, опустил винтовку и спросил:
— Кто тут?
Молчание. Я опять, громче:
— Кто тут?
Опять то же молчание, но, всматриваясь пристальнее, я успел разглядеть около белизны старый сапог.
«Что за штука, — думаю, — неужели это кто-нибудь подстерегает меня?» Кровь прилила мне в голову и так сильно, что у меня тотчас же заболела голова, невольная дрожь пробежала по всему телу, а сердце точно хотело выпрыгнуть. Но я скоро опомнился, снова приложился и закричал:
— Кто тут? Говори, а то убью сразу!..
Опять молчание. Я повторил тот же крик и уже добавил, что спрашиваю в последний раз.
Тогда куст распахнулся, и из травы выскочил человек богатырского склада. Он в ту же минуту упал на колени, снял шапку и сказал дрожащим голосом:
— Батюшка, ваше благородие! Пощади, голубчик!
Я узнал этого несчастного. Это был ссыльнокаторжный Иван Гаврилов, который накануне бежал с Кары, но заблудился, ночевал в лесу, а утром, увидав меня, спрятался в куст.
Не будь у него на ногах белых холщовых порток, я бы убил его, как козленка. Выслушав это, он только покачал головой, вздохнул, у него навернулись слезы, и он смело сказал:
— Ну что ж, ваше благородие, туда бы и дорога. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Значит, не судьба моя. Так, верно, богу угодно! Еще не надоел я ему, грешник…
Спросив его, не хочет ли он воротиться в промысел, и получив отказ, я вынул рубль, положил его на пень и сказал:
— Смотри, мы с тобой не встречались.
— Слушаю, ваше благородие! — был ответ. Он взял с пня рубль, поблагодарил, спросил дорогу и побежал, как козуля, между кустами…
Я воротился домой и целый день не мог есть: долго тряслись у меня руки и ноги, и до сих пор я не могу забыть этот случай, этого несчастного, его смелую физиономию, его навернувшиеся слезы…
Мне даже не спалось несколько дней и думалось о судьбе этого человека, о его прошлом: как он продолил всю Сибирь по этапам и как переживал в смрадных тюрьмах, перенося ужасные плети, лязг кандалов, натирающих ноги, тяжелые работы?.. А справедливо ли его осудили? Заслужил ли он такое возмездие?
Все это приходило мне в голову, потому что я лично знал в каторге много лиц, безвинно пришедших в Даурию, в полном смысле слова хороших людей, добрых отцов, недюжинных натур и честных тружеников, быть может, во сто раз достойнейших граждан, чем их тайком запятнанные судьи. Что заставило его бежать? Тяжесть ли носимого им креста или всесильная любовь к родине, где он мог быть достойным детищем великой отчизны, а теперь… теперь он должен или погибнуть с голода в беспредельной тайге, или вернуться с «бубновым тузом» на спине в ту же каторгу, в те же смердящие казематы!.. Да, а если он безвинен, — тогда это ужасно!.. Ужасно не иметь никакой надежды еще в цветущую пору, быть человеком, трудиться — как хочется, любить — как просит сердце, молиться о том, что еще так тепло на душе и, потеряв все, — только проливать безутешные слезы!.. Тысячу раз прав великий Достоевский, который, испытав всю тяжесть жизни, видел ее на своих ближних и в «каторжанах» нашел великого бога!.. Вот думы, которые давили мое сердце после описанного случая.
Скажите, кто в мое время в Нерчинском крае, почти во всех семьях служащего люда, были самыми доверенными, самыми близкими личностями? Ну кто, как вы думаете? Ссыльные, читатель, ссыльные! Заклейменные, затавренные ссыльнокаторжные люди!.. Все кучера, повара, няньки, кормилки — все это были ссыльные!.. Они живали десятками лет на одних местах и кроме искренней благодарности не заслуживали никакого нарекания. А бывали и такие случаи, что уцелевшие от клейм тихонько или, лучше сказать, келейно ездали со своими господами в пределы России, видались с родными и были настолько благоразумны и мужественны, что безропотно возвращались в каторгу, чтоб в ней положить свои косточки. Что это доказывало, как не порядочность этих людей, как не беспредельное доверие тех же господ к этим добросовестным пасынкам судьбы и их беспорочную привязанность.
Вспомнив о лунжанкинской «кикиморе» в доме, мне желательно рассказать и о другом довольно замечательном курьезе.
Дело видите в том, что на Нижнекарийском промысле жил в мое время уже свободный от работ ссыльный швед. Ни имени, ни фамилии его я не помню да, кажется, и не знал раньше, потому что все называли его просто шведом. Вот этот самый финн и прослыл по всей каторге за правдивого гадателя, а стоустая молва говорила о нем настоящие чудеса его предсказаний. Из этих последних я знаю один действительно, довольно замечательный случай. Сначала я расскажу его, а потом и свой.