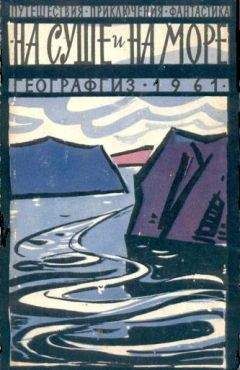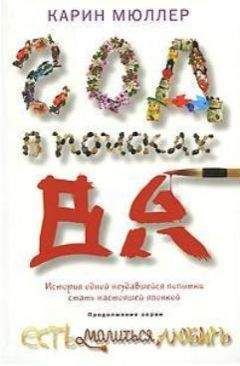Мюллер откидывается на спинку кресла. Ему, как и всем пассажирам, нет дела, что самолет, пронзая густую синь наступившего вечера, как по невидимому катку скатывается в разбегающиеся разноцветные дорожки женевского аэродрома. Некоторые пассажиры выходят в Женеве. Стоянка небольшая. Отто расхаживал неподалеку от самолета и дышал весенним, еще холодным, даже морозным воздухом. Над аэродромом ходил ветер с просвечивающих в тумане гор.
Когда самолет начал взлет, многие пассажиры уже спали. Было не так поздно, но многие устали за день, иные пассажиры начали полет еще с утра от Стокгольма. И одна за другой гасли лампы в первом классе и зажигались маленькие лампочки, чтобы пассажиры могли читать книги и газеты, не беспокоя соседа, уже желающего погрузиться в сон. Какой-то уют даже охватил длинную кабину, в которой так много разных людей устраивались поудобнее, чтобы скоротать время. Тут не вагон, где можно выйти в коридор и смотреть на пробегающие мимо вечерние пейзажи, видеть огоньки мирных домиков и фары машин, бегущих по дорогам на холмах. Тут не корабль, где можно ходить взад и вперед по палубе и смотреть на вздыбленную пустыню океана, на широкое небо с мерцающими в вышине звездами, названий которых никто не знает, и от этого они становится еще таинственней. И лучше, конечно, не думать о том, что этот длинный корабль висит в безмерном пространстве и под ним где-то замерла темная земля. И если следить хотя бы из окна за его полетом, то смотревший увидел бы с удивлением, что внизу несколько раз повернулась Женева квадратами разноцветных с жемчужными отливами огней. Это самолет делал круги, набирая высоту, и снова и снова падал, как бы проваливаюсь в бездну, чтобы опять дать новый скачок вверх, и наконец он одолел разорванные зубцы и снежные барьеры Альп и начал погружаться в бархатную тьму Ломбардской равнины.
И стало тихо в самолете, потому что почти все пассажиры, выпив и закусив, отведав всех бутылок воздушного погреба, начали дремать, так как предстоял длинный ночной перелет, и лучше не думать о нем, а жить как на земле. Пришла ночь — спать!
Отто оглядывался на самый дальний отсек, где в единственном месте не затихал веселый разговор и слышался даже звон стаканов.
Там помещались севшие в Женеве два американца и американка. Они, по-видимому, вовсе не хотели спать и вдоволь не наговорились на земле и не выпили еще всего того, что хотелось им выпить. Их разговор, отдельные возгласы проносились по всему первому классу, и девушка в синей форменной одежде бросала туда, в хвост самолета, грустные взгляды, но подойти к ним она не могла, потому что это были заокеанские пассажиры, которые, кто их знает, привыкли у себя дома к иным порядкам, чем в Европе, и делать им замечания неудобно.
До Отто тоже доносились эти возгласы и звон, но он решил не начинать такой длинный путь со скандала в воздухе. Наоборот, когда ему стало ясно, кто нарушает тишину самолета, он даже усмехнулся: «Когда-нибудь и мы будем так галдеть, и никто не посмеет сделать замечание. Были же такие времена! Спросите у дяди — он порасскажет кое-что о кабачках Рима или отелях Сицилии… Где этот Рим сейчас, далеко ли?.. А впрочем, черт с ним!»
Если бы он посмотрел в окно, то увидел, как самолет прошел огни Рима и они долго светились за крылом.
В римском аэропорту было холодно, пустынно и сыро. Вместе с толпой пассажиров Отто Мюллер вошел в пустой ночной аэровокзал.
При виде внезапно появившихся путешественников ожили неподвижные, как манекены, пожилые итальянки, дремавшие за прилавком. Быстрыми жестами снимали они с полок различные игрушки, заводили их, и перед усталыми, сонными иностранцами начинали танцевать маленькие дамы и кавалеры на крошечной гондоле, порхая под серебристый звон мелодии, звучащей рядом в домике типа шале, откуда раскланивались горцы в шляпах с петушиным пером. Отовсюду слышались тонкие звуки и легкий скрип кружащихся в танце кукол. Тут же на прилавке появились бумажники из коричневой кожи с видами Рима и Неаполя, кольца с геммами[2], длинные ожерелья из красновато-мутного коралла, много всякой блестящей, радужной мишуры, которую лениво рассматривали прилетевшие, приценялись, торговались, смеялись, шутили с продавщицами. В руках мелькали часы, чашки с античными сюжетами, пейзажами Священного Города, сумочки, брелоки, альбомы открыток. Пассажиры охотно рассматривали все это дешевое и дорогое, что предлагалось их вниманию, говорили между собой, подолгу стояли у прилавка и чаще всего не покупали.
Отто Мюллер невольно следил за своими земляками, врачами, едущими в Гонконг. Он видел, как к одному из них — высокому, широкоплечему — подошла бледная немка, они сразу заговорили, она взяла его под руку и увела на крайнюю скамейку. Там они сели рядом, она прижалась к нему, и они начали шептаться так быстро, что было странно видеть их в этом полночном, веющем скукой, тоской и сыростью аэровокзале. Их можно было рисовать, как символ неизбежных прощаний. Отто Мюллер невольно, проходя взад и вперед между колонн большого вокзального зала, следил за ними. Немка быстро вынула из сумочки какую-то цепочку. На ней висело что-то вроде медальона. Она передала эту вещь высокому доктору, и у него на лице появилось выражение растерянности, удивления и грусти. Но он взял медальон, и они опять начали шептаться.
Когда веселый, как бес, и неизвестно чему радующийся итальянец в ловко подогнанной форме объявил, что можно идти к самолету, у выхода на поле появилась такая красивая, свежая, молодая итальянка, отбиравшая транзитные карточки, что все оживились и старались как можно медленнее пройти этот контроль, сразу разогнавший ночную скуку и полусонную суету вокзала. Высокий врач почти нес на плече свою немку. Она уже плакала не стесняясь и утирала слезы большим платком.
Мюллер, стоя над прилавком, испытал странное чувство. Ему хотелось сломать заводную игрушку-куклу, изображавшую тонкую балерину с веером, которая танцевала на черепаховой гондоле, украшенной перламутровыми разводами. Почему не понравилась ему эта балерина, он бы не мог сказать, но он возненавидел и ее веер и музыку, сопровождавшую ее механические повороты. Он уже протянул руку, чтобы взять ее, но тут раздался голос развеселого итальянца, приглашавшего в самолет; продавщица привычным движением сняла куклу с прилавка, и она дотанцовывала свой танец на полке между бронзовой Дианой с колчаном за плечом и калабрийским пастухом с волынкой.
Но едва шумная процессия, растянувшаяся от лестницы с бравыми скучающими не то полицейскими, не то таможенниками до автоцистерны, остановившейся перед черным в сумраке крылом самолета, хотела приблизиться к высокому трапу, как кто-то невидимый задержал ее и остановил на полпути.