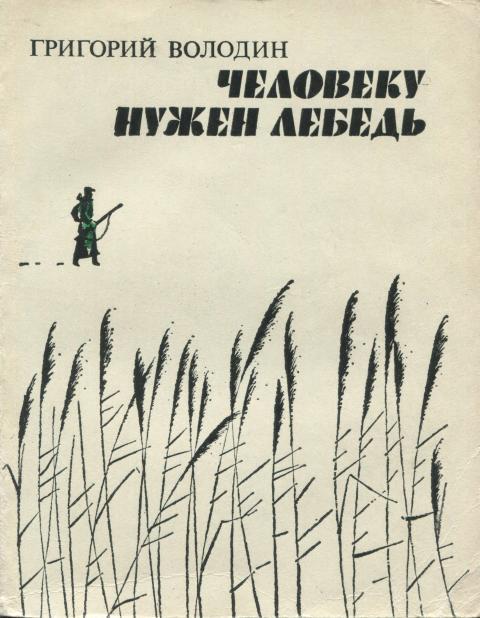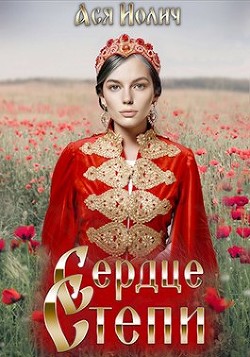кряковых, казарок и гусей. Цаплю, по-нашему, прикаспийскому, чапуру, Филиппов не добывает.
— Разве это дичь? Недоразумение какое-то, а не птица! — так о ней говорит Иван Степанович. — Шея полметра, ноги еще длиннее. Несуразица, да и только. Поднимается, вроде три сажени мяса взлетает, а на поверку меньше кряковой.
Сказать, что Филиппов из себя видный, представительный, — нельзя. Роста небольшого, в плечах не узкий и не широкий, сутуловатый и кривоногий, вроде от этого и приволакивает ноги при ходьбе. На лобастой голове виски сединой подернуло, будто снегом припорошило их, а черные кустистые брови козырьком над глазами, прикрывают, прячут хитринку в серых добрых глазах. Но самое примечательное у него — усы! Длинные, густые, без единой седой волосинки, цвета спелой пшеницы. Хорошее настроение у старика — усы книзу висят, как у заправского запорожца; рассердится Иван Степанович — усы встопорщатся, как щетина на загривке разгневанного вепря. В ходьбе он не знает устали: шестьдесят километров с охотничьим снаряжением отшагает — и хоть бы что; в камышовых крепях ориентируется лучше, чем на собственном подворье, где кабан пройдет — там и он проберется. С парусом управляется как каспийский рыбак. Охотничье снаряжение у него такое, какого ни у кого нет, все по сезону, все по погоде, все по местности. Вот и промышляет он помногу, зимой — зайцев и лис, весной — отыскивает волчьи логова, ранней осенью — пролетных.
А в октябре, когда на Каспии дичи видимо-невидимо, старик снаряжает лодку и надолго исчезает из поселка. В такое время он разборчив на охотничьего спутника, с кем попало не поедет.
Долго я ходил около него, и так и эдак захаживался, чтобы поехать с ним. Не знаю причин, но одной осенью вдруг передал он мне через внука, чтобы собирался я с ним на Морские острова. Мне что готовиться? Отпуск оговорен заранее, всегда в это время беру. Взять ружье, патроны, хлеба дней на семь — вот и все сборы. Прихожу к Филиппову. Посреди двора стоит маленькая легонькая арбичка на двух колесах, гляжу, а на ней — чего только нет! Само собой разумеется: мачта, реек, парус, два шеста, бечева для лямки, якорь трехлапый — все это в море нужно. Но на арбе и примус, и жарник — в нем прямо на лодке можно развести костерок, сварить чего-нибудь или чайку скипятить, чугунный котелок, фонарь «летучая мышь»; во вместительном мешочке крупная соль, говорят, она солонее мелкой; в ведерке помидоры, картошка; одежин порядочно, а поверх них накатом полосатые и белые арбузы — быковские и чапурниковская мурашка. А двери камышовой землянки — так у нас избы с плоскими крышами называют, а если крыша на стропилах и потолок имеется — то камышанками, — все хлоп да хлоп: старуха выносила что-то в сумочках и банках, и все это тоже на арбичку.
Замечательная у Ивана Степановича старушка. Худенькая, шустрая и все хлопочет, всегда делом занята. Домашнее хозяйство ведет, патроны заряжать помогает, за сеном ездит, может так возок свершить — куда там нынешним молодым мужикам; косит камыш хоть косой, хоть ураком — это кусок косы на короткой ручке. Зимой капканы на зверя ставит. Зайца или лису обелует, снимет шкуру, как заправский охотник. Хороший помощник она Филиппову.
— Кажется, все положили, мать, — наконец-то сказал Иван Степанович, принимая из рук хозяйки компас и ружье.
Мы покатили арбичку к протоку. Даже среди многочисленных рыбачьих и охотничьих посудин на берегу я легко отыскал взглядом лодку Ивана Степановича. Много у него было хлопот при постройке куласа, но сделал он его на свой вкус. Нос лодки приподнял, чтобы встречная волна не заплескивалась внутрь, корма четверти на две выше бортов, — когда по ветру идешь под парусом, волна догонит, но через корму не перемахнет. Отсеки — кормовой и носовой — опалублены, это сухие хранилища всякой снасти и припасов, никакой дождь не страшен. По бортам широкие отливины-доски — лодку скособочит во время хода, а вода не заплеснется через них, в них же отверстия для стоек палатки, которую он разбивает, становясь на якорь. Отличный кулас у Ивана Степановича — вместительный, на ходу легкий, мелководный, руля слушается, а когда лямкой вытягиваешься на взморье — не тяжел. Самый, что называется, охотничий!
Нам повезло, в море шел баркас — мы кинули на него буксир, и он быстро вытащил нас из протока, где парусом навстречу моряне не пойдешь, надо тянуть бечевой, по-бурлацки, или толкаться шестами. Когда мы оказались в море, Иван Степанович загоревшимся взглядом окинул его, как-то торжественно приказал:
— Шкот!
Подал ему веревку, привязанную за нижней подбор паруса. Он распушил усы, улыбнулся, махнул рукой вверх: давай, мол! Я непрерывными рывками поднимаю длинный и тяжелый реек с принайтованным к нему просторным парусом. Скрипит от тяжести блок, ветер рвет в разные стороны полотнище, оно громко хлобыщется. Иван Степанович внимательно следит за всем, удерживая шестом лодку носом в ветер, навстречу набегающим волнам. Как только я закрепил парус, он заталкивает корму, и ветер — свежий, по-осеннему плотный — врывается в косое полотно паруса, вскидывает его белым крылом над лодкой, кренит ее на один борт. Набирая скорость, мы устремляемся в море.
Куда ни посмотришь — волны, одна за другой, похожие друг на друга, бегут и бегут из глубины моря, и нет им конца. Морские просторы так велики, что среди них сейнера кажутся игрушечными корабликами, а огромные рыбоприемные шаланды, двухэтажные, видятся маленькими домиками. Оттуда, с сейнеров и шаланд, наш куласик, наверное, кажется большой белой чайкой.
Каждый раз при встрече с морем меня охватывает какое-то необъяснимое чувство восторга и уважения к этому уймищу воды, бездонному и голубому небу над ним, беспрерывному говору волн, будто пытающихся о чем-то рассказать, поведать, скорее всего о прошлом, и, видимо, только поэтому я люблю помолчать. Приметил я перемену и в Иване Степановиче. Пока мы выбирались из протока, старик шутил, смеялся, а перед лицом моря смолк, не посуровел, а как-то весь собрался, весь вид его говорил, что тут шутки не у места, к Каспию надо относиться серьезно и уважительно. Он молча кидал взгляды на остающийся вдали берег, провожая просветленным взором встречные стаи серых, как и гребни волн, гусей, летящих низко над водой, и станицы шумной казары высоко в небе. Задумчиво понаблюдал, как большая стая белолобых лысух отбивалась от коршуна. Хищник, падая вниз, сложил крылья, стал похож на стрелу, мощно запущенную из лука. Но ему не удалось застать врасплох черных птиц — они сплылись в плотную кучу и все разом ударили крыльями по воде, вздыбили ее вверх, прикрылись непроницаемой водяной завесой. Попасть в нее коршуну — гибель, крылья у него намокают, и он взмывает снова