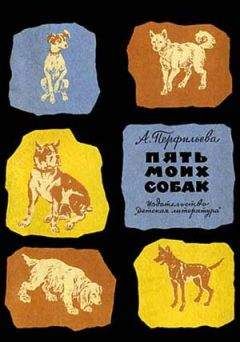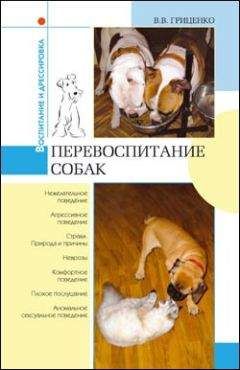В один из свободных дней, когда потеплело, я решила навестить за городом родственников и взяла Манюню с собой.
В поезде она вела себя превосходно. Но когда сошли на платформу, замерла как вкопанная, я не могла сдвинуть её с места. Видимо, ошеломили новые запахи. Долго и тщательно, как следопыт, вынюхивала она каждую ступеньку платформы, валявшуюся в кустах ржавую консервную банку, редкие новые травинки и высохшие старые… Не помогали ни окрики, ни дёрганье поводка. Пока Манюня не освоилась с новыми запахами, она словно оглохла. Зато потом резво потащила меня по тропинке.
Мы зашли в рощу, и я спустила Манюню с поводка. Но она не побежала вперёд, хотя дальше виднелась чудная, поросшая травой поляна. Остановилась опять и стала изучать тропку: чёрный нос не подымался от земли, уши тряслись и хлопали; Манюня даже хрюкала, исследуя каждый валявшийся камень, сучок или комок земли.
– Ко мне! И вперёд! – протягивая руку, приказала я, теряя терпение.
Манюня оглянулась – мол, отстань, пожалуйста! – и, тщательно подрывая лапкой, втиснула морду под какую-то коряжину. Мне удалось оттащить её от коряжины, и я ахнула: светлая чистая морда по уши была заляпана землёй, а лапы, мохнатые чистые лапы превратились в грязные ошмётки.
«Ну и ну! – подумала я. – Всю красу сразу растеряла»…
Дальше мы шли довольно долго спокойно. И вдруг Манюня исчезла. Она исчезла в кустарнике с такой быстротой, что я не успела заметить, куда она устремилась.
– Манюня, вернись!
Этого памятного с детства слова она слушалась обычно беспрекословно. И сейчас послышалось невнятное бульканье, всплеск. Сквозь голые ветки показалось что-то светлое, скрылось…
«Неужели противная собачонка провалилась куда-нибудь?» – подумала я, раздвигая кусты.
Нет, она не провалилась – она сама залезла!
Между кустами, в глубокой, черневшей среди нестаявшего снега колдобине, полной тёмной воды, плавала Манюнина голова с распластанными ушами. Туловище было скрыто под прелыми листьями.
Что же делать?
Упираясь ногами в оползавшую землю, я нагнулась, ухватилась одной рукой за куст, другой за Манюнин ошейник. Бедный нарядный ошейник! Он был мокрый, в какой-то тухлятине. А вытащенная из колдобины Манюня превратилась в страшилище: чёрная вода стекала по шерсти, как по сосулькам, вся она была облеплена прелыми листьями, с хвоста и ушей лились мутные потоки. Чистым осталось только белое пятнышко на лбу, да светились восторгом чёрные блестящие глаза.
– Ну зачем, зачем ты полезла в эту грязную яму? – с негодованием спросила я.
Манюня, яростно отряхиваясь, всем видом показала, что она совершенно не согласна со мной.
– Ах глупая собака! Вот теперь ещё простудишься…
Нет, она не была глупой: в ней просто заговорил охотничий инстинкт.
С тех пор, увидя любое болотце, подёрнутую тиной заводь или просто грязную лужу, Манюня всегда норовила плюхнуться в них. И, поглядывая виновато, но непреклонно, бултыхалась в своё удовольствие. А вот в чистую проточную воду, в реку, особенно не у берега, а поглубже, она шла неохотно, хотя плавала отлично.
К следующему году Манюня сформировалась совсем. Она слушалась свиста, носила поноску, великолепно знала слова: «К ноге!», «Лежать!», «Сидеть!», «Вперёд!». Манюня стала большой, крепкой, с немного полным туловищем (оставалась по-прежнему обжорой и любила поспать). Морда у неё была хороша: на золотистой шерсти красиво выделялись выразительные чёрные глаза и уши были длинные, завитые, словно их завил искусный парикмахер. Короткий хвост тоже кудрявился, с боков свисала нарядная волнистая бахрома. Лапы, чуть вывернутые, покрывала длинная шелковистая шерсть. И всё-таки – увы! – Манюня оставалась обыкновенной комнатной, а не охотничьей собакой.
Конечно, живя за городом, мы много гуляли с ней в поле, по лесу. В лесу она сразу оживала. Делалась подвижной, челноком рыскала по кустам, вынюхивая и выслеживая кого-то, один раз спугнула и подняла крупную птицу… В другой раз мгновенно – мы не успели опомниться – разорила чьё-то гнездо и передушила птенцов. Мы не могли сердиться на неё – это была её естественная потребность! Но всё это была не настоящая для охотничьей собаки работа. Мы медленно и постепенно убивали заложенный в Манюне природный инстинкт. Никогда, никогда не прощу себе этого и не заведу больше охотничьей собаки, раз не могу с ней работать!
Но вот однажды – уже следующим летом – нам позвонили по телефону:
– Говорят из охотничьего собаководства. У вас находится спаниель кличкой Маша, регистрационное свидетельство номер такой-то, год рождения такой-то, масть золотисто-белая?
– У нас! – гордо ответил подошедший к телефону Андрейка. – Только её теперь зовут Манюня.
– Это не имеет значения. Приводите её в помещение охотничьего общества для осмотра и отбора к выставке. Выставка состоится в следующее воскресенье на стадионе станции Люблино, Курской железной дороги. Открытие в десять часов утра.
– Обязательно приведём, обязательно! – закричал Андрейка. – Только знаете, мы ведь с ней не охотились.
– Ничего. У вашей собаки могут быть щенки, которые потом попадут к охотникам. Поэтому привозите.
– Спасибо!..
Ох какое у нас дома поднялось волнение! Даже Хая Львовна и Каречка прибегали узнавать, всё ли в порядке.
В субботу вечером мы выкупали Манюню. Купаться она терпеть не могла. Стоило снять с неё ошейник, принести гремящее корыто, как Манюня забивалась во все углы, как от глазных капель. Правда, когда её загоняли в корыто, стояла покорно, грустно, со страдальческой мордой.
Манюню отмыли. А наутро, расчесав блестящую шерсть, Вася с Андрейкой повели её в охотничье общество.
Вернулись оба, сияя: Манюню отобрали на выставку!
– Значит, она ещё годится для охоты? – удивилась я.
– Ты ничего не понимаешь. У нашей собаки отличные данные для разведения потомства, а охотничье общество крайне заинтересовано в этом! – с жаром воскликнул Вася.
Вот тебе раз! Выходит, рано или поздно нам придётся заняться разведением щенков?
На выставку повезла Манюню я – Вася с Андрейкой были заняты.
Ну и томительный, тяжкий это был день!
Площадь у Курского вокзала была похожа на собачий базар: то и дело подъезжали машины, из них выскакивали распаренные хозяева, следом лезли собаки, иногда по две, по три. Каких только не было: и низенькие кривоногие злые таксы с умными мордами, и звонкоголосые жесткошерстые фокстерьеры, и гладкие, с прямыми, точно хлысты, хвостами пойнтеры, и гончие, и легавые, и лайки с острыми ушами.
Лай, визг, крики, шум, толчея… Очередь у билетных касс, наверно, никогда не была такой громкой и пёстрой. Хозяева отводили собак в сторону, чтобы не погрызлись, хотя все были в намордниках. Торопливо кричали кассиру: «Два взрослых, три собачьих!» или: «Один взрослый, два собачьих!»