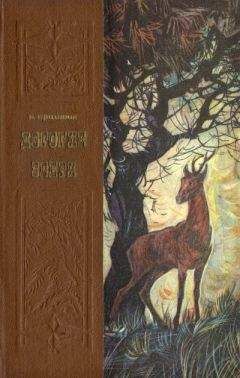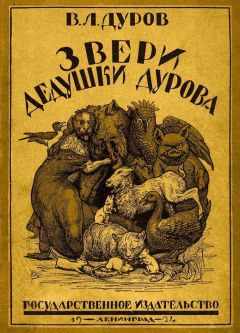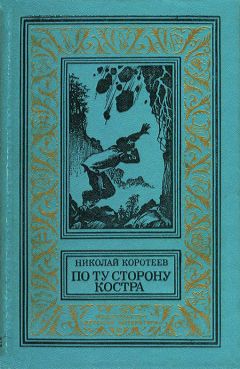Сибирские разговоры
Пройдет еще сколько-то времени, тракторов и автомобилей в Сибири явится столько, что как в Америке будет. Говорят, будто там все население можно посадить в автомобили. Тогда едва ли поэты и писатели будут много о них говорить, как теперь, но автомобили и тракторы повлияют на ритм жизни, и оттого поэты о тех же прежних звездах и лунных ночах будут говорить совсем по-иному. Да, конечно, раз солнце миллионы столетий было главной причиной жизни на земле, то и в ближайшие десятилетия оно не померкнет и о нем стихи будут продолжаться у новых поэтов, но ритм сибирских разговоров, конечно, переменится под влиянием тракторов и автомобилей.
Вспомните хотя бы урожай прежнего времени. Как он нам тогда представлялся: с гумном и счетом копен на бирках, током и загадками: летят гуськи, дубовые носки. Ритм жизни совершенно определенный. Пойдите найдите теперь новый ритм, определенный движением комбайнов и тракторов: тот же самый солнечный луч попадает через трансформатор нового времени. Надо уловить его движение и сделать жизнь, как делает зеленое вещество растений с тем же самым лучом.
Вот кончились степи, и насела тайга. Кто воспел ее до конца, как Пушкин великорусский календарь в своем «Онегине»? Где этот поэт, сказавший нам о тайге, как Лермонтов про звезды Кавказа или Гоголь о Сорочинской ярмарке? А если не сказано о тайге в ее исконном, родном, чисто таежном ритме, то неужели она вся будет истреблена неузнанная, непонятная в своем поэтическом размере… Возможно ли это?
Стали показываться кедры. Глухарь полетел. Немец сказал партизанам:
— Кедры очень хороши, но сосны много красивее.
Партизаны, жители этой тайги, все понимающие в се древней, никем не высказанной, не названной сокровенности, стали заступаться за кедр. Сколько животных, и каких только, не кормится в кедровниках: белки, соболь, куница. От этого маленького ореха зависит жизнь бесчисленных существ. Если бывает неурожай ореха, белка спешит вон из тайги, и птицы кедровки улетают далеко за Урал, в европейскую часть Союза, и мы здесь по кедровке за восемь месяцев до беличьего промысла можем предсказать, что нет ореха в тайге, и не будет, значит, белки.
А люди! Сбор орехов в тайге — это народно-сибирское дело, и недаром эти орешки называются сибирскими разговорами. Тут свой урожай, не имевший в прошлом певцов. На местах шелушения шишек женщинами, детьми остаются большие кучи из копытцев, или крышек, заключающих в кедровых шишках орехи. Конечно, в этих кучках остается много мелкого, ненужного людям зерна, и вот когда нападает снег, можно бывает видеть, как глухари, эти громадные птицы сибирской тайги, подбираются к кучкам с копытцами, добывают оставшиеся зерна и так продолжают начатое людьми шелушение, как в каком-нибудь кольцовском урожае продолжают в гумне голуби. Но глухарь не голубь, даже не куропатка, не рябчик, не тетерев: он совсем не выносит сближения с человеком. Это участие его в сибирских разговорах есть редчайший и, может быть, единственный пример сотрудничества с человеком.
Когда немцы услышали рассказ о копытцах, то очень его одобрили, а партизаны просили меня перевести по-немецки их ответ на слова о том, что кедры хороши, но сосны красивее.
— Сосны, — сказали партизаны, — красивы, но кедры — с орехами.
Реки Западной Сибири надо представлять себе как громадные осушительные каналы, влекущие болотную воду в океан; чем севернее, тем почва болотистее, так что рекам этим течь, течь и не вынести болотную воду до «второго пришествия». Потому и нет никакого сомнения, что человек примется за искусственное осушение громадных пространств много раньше, чем само собой осушится. Но когда это будет? Пока же, слушая рассказы об этих местах, совершенно забываешь о каком-либо истощении запасов на неопределенно долгое время. Чего стоит, например, рассказ одного партизана, что для подбивки эвенских лыж идет кожа с коленки молодого лося и что таким образом на одну пару лыж требуется восемь или девять лосей. Река Конда, приток Тобола, в особенности славится девственностью своих болотных берегов. Дорожный техник, едущий с нами, говорил, что в этом году в центре впервые явилась мысль о проселочной дороге по этим кондовым местам, и для этих целей снаряжается теперь разведочная экспедиция. Этот же бывалый техник участвовал в проведении пути на знаменитые Алданские золотые россыпи и между прочим рассказал нам о евражках, или, по-нашему, сусликах, занятную историю. В иных местах Якутии будто бы скопцы очень усердно и с большим успехом занимаются земледелием, и у них сносно родится пшеница. Когда этот хлеб у скопцов поспевает, выходят из-под земли евражки и собирают к себе в подземные убежища зерно в колосках. Работа эта огромная, нужно выбрать самые тяжелые колоски, нужно их уложить один к одному, как у нас выкладывают товары в самых лучших магазинах. И вот, когда уберут с поля хлеб, а суслики закончат уборку колосков в своем подземном магазине, являются якуты-охотники и грабят магазины евражков. Выгодное дело. Говорят, будто бы за один пуд такого зерна дают три пуда обыкновенного. Дорожный техник, сам несколько похожий на небольшого грызуна, сумел так преподнести нам рассказ о животных своего собственного вида, что сочувствие наше целиком оставалось на стороне сусликов, вообще-то говоря, признанных вредителей сельского хозяйства. Вот в окне что-то показалось, а колесо уже обернулось; как бы так устроить, чтобы следующее мгновение поймать в себя?
Меня тревожит всякое пропадание, оно производит во мне опустошение. Вот возьми и сочиняй, прославляй какое-нибудь событие, если каждый живой случай при этом должен пропасть. Нет, не хочу ничего сочинять, хочу рассказывать только о том, что видел собственными глазами и как оно до меня доходило, а если чего не видел своими глазами, а слышал от людей, то так и буду говорить, что пишу по чужим словам и за полную правду не отвечаю.
Я хотел бы стать поэтом не только общего, но и случайного. В одно мгновение повертывается колесо вагона, и люди спят, а я ловлю жизнь. Вот моя дорога прошла, я пишу дома и второй раз еду по тому же пути и вижу ясно, как случаи мои складывались постепенно в событие.
Только после Енисея начинается Сибирь, совсем не похожая на европейскую часть Союза, объединенная простейшим народным сказанием про озеро-море Байкал и реку Ангару. Байкал, по этим сказаниям, представляется нам как старый грозный колдун. И, правда, немного нужно воображения, чтобы представить себе, как этот колдун варит какое-то зелье на своих черных скалах. Ангара, молодая жена Байкала, — река самая прозрачная, самая холодная, быстрая и совершенно прекрасная. Однажды во время тумана Ангара вздумала убежать к Енисею, Байкал поздно заметил убегающую в тумане жену, швырнул ей вдогонку скалу, но не попал. Ангара ушла к Енисею, а скала и до сих пор торчит из воды при выходе Ангары из Байкала. Вот когда мы проехали Енисей и заметно началась какая-то совсем другая Сибирь, один из наших спутников, партизан Григорий Спиридонович Еврагин, простецкий малый, гигантского сложения, посмотрев в окно, вдруг на весь вагон крикнул: