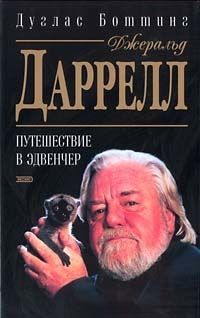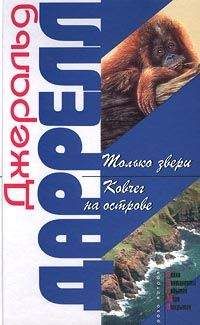Кое-где в зеленом своде зияли широкие просветы; видно, насекомые и сырость подтачивали толстые суки, пока те не обломились и не рухнули на землю с высоты нескольких десятков метров, оставив в лиственном пологе прорехи, открывающие доступ золотистым солнечным лучам. Пятна ослепительного света привлекали бабочек — и крупных, чьи длинные, узкие, оранжево-красные крылышки горели десятками огоньков на фоне лесных теней, и беленьких малюток, что хрупкими снежинками взмывали в воздух у моих ног, потом, выписывая плавные пируэты, опускались обратно на черный перегной. Дальше я выходил на берег речушки, которая с тихим журчанием струилась между отполированными водой камнями в зеленых шапках из мха и крохотных стеблей. Через лес и через полосу кустарника на опушке поток прокладывал себе путь на поляну. Но, немного не доходя до опушки, был заметный уклон, и речушка образовала череду маленьких водопадиков, украшенных пучками дикой бегонии с яркими глянцевитыми желтыми цветками. Здесь бурные ливни вымыли почву из-под могучих корней одного лесного исполина; теперь он лежал на земле наполовину в лесу, наполовину в траве, и осталась от него лишь огромная, медленно гниющая пустотелая кожура, обросшая вьюнками, мхом и полчищами крохотных поганок, которые плотным строем шагали по шелушащейся коре. Тут находился мой тайник: в одном месте кора провалилась и получилось подобие челна, так что я мог сидеть, надежно закрытый низкой порослью. Убедившись, что место никем не занято, я устраивался в тайнике и ждал, стараясь не шевелиться.
Около часа ничего не происходило, только звенели цикады, от ручья подавала тонкий голосок древесная лягушка, да иногда пролетала бабочка. Но вот наконец лес позабыл о тебе, поглотил тебя, и ты стал для его обитателей как бы частью пейзажа, пусть даже не самой живописной.
Обычно первыми являлись здоровенные турако, привлеченные плодами дикого инжира на опушке. Эти крупные птицы с тяжелым, как у сороки, хвостом за километр давали знать о своем прибытии веселыми, громкими, звонкими криками: «Кару-у, ку-у, ку-у, ку-у!» Вот появились из леса, ныряя в воздухе, как на волнах, и опускаются на дерево, оживленно перекликаясь и дергая длинным хвостом, так что по всему золотисто-зеленому оперению разбегаются радужные переливы. Турако совсем не по-птичьи бегали по ветвям, прыгали с одного сука на другой, подобно кенгуру, на ходу срывая и глотая плоды. Следом за ними на пир прибывали мартышки мона, одетые в красновато-коричневый мех и серые чулки, с двумя причудливыми ярко-белыми пятнами в основании хвоста, напоминающими огромные отпечатки пальцев. Их появлению предшествовал гул и треск, словно на лес вдруг обрушился порыв ветра, но, если хорошенько прислушаться, можно было сквозь этот шум различить улюлюканье и нечто вроде прерывистых гудков, как от скопища застрявших в уличной пробке допотопных такси. Это кричали птицы-носороги, которые всегда сопровождают обезьяньи полчища, поедая не только обнаруженные мартышками плоды, но и обитающих в древесных кронах ящериц, древесных лягушек и насекомых, спугнутых стремительным движением рыжей ватаги.
Достигнув опушки, ватага останавливалась, и вожак, заняв командную позицию, с подозрительным ворчанием крайне тщательно обозревал простершуюся перед ним поляну. Его отряд, насчитывающий полсотни особей, хранил полное молчание, лишь иногда нарушаемое хриплым криком какого-нибудь младенца. Наконец, удостоверившись, что поляна не таит ничего опасного, старый самец трогался с места. Медленно и важно выступал он вдоль ветки, изогнув хвост над спиной вопросительным знаком, и мощным прыжком переносился на фиговое дерево. Здесь он снова останавливался и еще раз осматривал поляну, затем срывал плод и издавал повелительный клич: «Ойнк, ойнк, ойнк!» Тотчас безмолвный лес позади него оживал, ветви расступались с шумом, напоминающим рокот могучего прибоя, мартышки выскакивали из укрытия и прыгали на плодовые деревья, обмениваясь на лету кто звонкими, кто хриплыми возгласами. У многих самок на животе болтались крохотные детеныши, и, когда мамаша прыгала, младенец пронзительно визжал — то ли от страха, то ли от восторга.
Только обезьяны примостились на ветвях, чтобы заняться спелыми плодами, глядишь, и птицы-носороги, обнаружив их местонахождение, с радостным курлыканьем, громко шурша крыльями и ломая прутья, как это у них заведено, беспорядочно сваливаются на те же деревья. Большие глуповатые круглые глаза в обрамлении густых ресниц озорно поглядывают на мартышек, а огромные и на вид громоздкие клювы осторожно и ловко срывают инжир и небрежно подбрасывают его в воздух. Падая, плоды ныряют в широко разинутую пасть птицы и исчезают в ее желудке. Носороги обращались с пищей отнюдь не так расточительно, как мартышки, они проглатывали все, что срывали, тогда как обезьяны, откусив один кусок, роняли плод на землю и тянулись к следующему.
Появление столь буйных сотрапезников явно шокирует дородных турако, поэтому они спешат удалиться. Примерно через полчаса вся земля под фиговыми деревьями уже усеяна обкусанными плодами, и мартышки направляются обратно в лес, обмениваясь удовлетворенными возгласами. Носороги задерживаются ровно столько, сколько нужно, чтобы проглотить еще по одному плоду, и кидаются догонять обезьян. Не успели отшуметь их крылья, как на сцену выходят следующие потребители инжира. Они так малы и выныривают из высокой травы так внезапно и бесшумно, что без бинокля вы даже при самом пристальном наблюдении не сумеете их обнаружить. Это полевые мышки, живущие среди кочек, под корнями и под камнями на опушке леса. Величиной с домовую мышь, с длинным, постепенно сужающимся хвостиком, они одеты в гладкую, песочно-серую шубку, лихо расписанную желтовато-белыми полосками от мордочки до хвоста. Маленькие грызуны скользят между травинками короткими рывками, поминутно вздрагивая и надолго замирая, чтобы, сидя на задних лапках и сжав розовые кулачки, принюхаться дрожащим носиком в обрамлении трепещущих усов — нет ли врага? И когда мышки вот так застывают на фоне травинок, полосатая шубка, столь приметная и нарядная при движении, мигом превращается в плащ невидимки, и зверьки почти сливаются с фоном.
Убедившись, что птицы-носороги и впрямь улетели (а эти пернатые весьма неравнодушны к полосатым малюткам), мыши приступали к важному делу — доедали плоды, так расточительно разбросанные по земле мартышками. В отличие от многих других диких мышей и крыс эти крохи довольно сварливы, и начинали спорить из-за добычи, сидя на задних лапках и перебраниваясь пронзительными тоненькими голосками. Иногда две мышки одновременно хватали один и тот же плод и, упираясь в землю розовыми лапками, тянули изо всех сил каждая в свою сторону. Если плод был очень спелый, он чаще всего разламывался пополам, и соперницы падали на спину, прижимая к себе свою долю трофея, после чего тихо и мирно съедали ее, сидя в пятнадцати сантиметрах друг от друга. Время от времени, испуганные внезапным звуком, они подскакивали, словно подброшенные пружиной, сантиметров на двадцать, а приземлившись, долго дрожали и озирались. Убедятся наконец, что опасность миновала, и снова начинают спорить из-за еды.