День, когда я смог побывать в Заполярье, наконец настал. После двухчасового перелета из Ленинграда в Архангельск мы пересели в другой самолет, двухмоторный и неустроенный, с жесткими металлическими скамейками, и тот, взлетев, лег курсом к Полярному кругу.
Я летел в город Мезень, а оттуда должен был добираться в горло Белого моря, на полуостров Канин.
Воздушный путь наш тянулся над двинскими лесами, над рыжими болотами, синей путаницей озер. Земля была бесконечно однообразна и безлика — она напоминала коричневые и зеленые лужи или неумело раскрашенный асфальт, на который смотришь из окна многоэтажного дома.
И вот наконец после часа полета тряхнуло — самолет пошел вниз. Земля приблизилась, повернулась. Зелеными свечками побежали за окном елки. Завертелась река. Она заблестела, раздалась в ширину, берега поднялись. На воду упали спичечные плоты. Выскочила и задымила труба над крошечной лесопилкой.
Самолет, почти касаясь крылом песка, побежал по речному берегу, заскрипел, задергался, остановился.
Я вышел из кабины — над рубленой избой аэровокзала метался полосатый конус. Перешел поле, вскарабкался на бугор и замер…
Сколько тут света и воздуха!
Мезень — синий разлив, уходящий в море. Далекий берег с пестрыми невесомыми домиками. А справа и слева — за горизонт — поля, местами вспаханные, местами поросшие дикой травой.
За ними, как паруса кораблей, серые, наполненные ветром крыши сараев. И вверху белое, едва тронутое голубой кистью небо. В нем — длинные, растянутые ветром облака.
Земля, недавно безразличная и плоская, вдруг стала исполненной красоты и смысла, стала близкой и понятной. Я узнал ее — северную страну, в которой никогда не был, но память о которой бережно хранил.
Я вернулся на родину. Ветер, который протяжно дул с реки, подтвердил: это так!
Вскоре же оказалось, что выбраться из Мезени и лететь далее на север не так-то просто. Единственный самолет — одномоторная «Аннушка» — Ан-2 — застрял где-то из-за тумана, и когда он прилетит, никому не известно.
Я поселился в гостинице и стал бродить по городу.
Одна большая улица, непроходимая от грязи, с лежнями — бревнами, скрепленными металлическими скобами, по которым, как по рельсам, осторожно, чтобы не соскользнуть, брели грузовики. Улица тянулась вдоль речной долины. Самой Мезени не было видно — река терялась где-то на краю поросшей густой черной и зеленой травой поймы.
Натянув на ноги болотные сапоги, я спустился с угора — старого речного обрыва — в пойму и после получаса ходьбы достиг воды.
Шел отлив. Река отпрянула от берега, обнажив чистый мелкий желтый песок.
На песке лежала баржа. Она лежала, натянув канаты, которыми была причалена к деревянным, вбитым в песок палкам. Причальный помост остался наверху. Он словно вздыбился над упавшим судном. По вертикально задранной сходне, держа равновесие, карабкался матрос.
Снова на угор вышел я около городского кладбища. Покосившиеся, в трещинах деревянные кресты. В одну из могил было воткнуто древко, а на нем полоскался выцветший кумачовый флаг.
Около флага сидел на корточках бородатый человек в студенческой куртке и рисовал что-то в альбоме.
Я присел рядом.
— Удивительное кладбище, — доброжелательно сказал человек. — Заметьте, какие кресты. На каждом даже крыша от дождя. Лежи себе как в избе…
Он вздохнул.
— Из центра? — спросил я.
— Из Москвы. Мне эскизы к кинокартине нужно сделать. Снимать здесь через год будем… Ах, какая она, Мезень!
Я не понял его, а он сказал это нараспев и улыбнулся.
Мы просидели на кладбище до сумерек. Художник собирался назавтра ехать автобусом в деревни Лампожню и Заакокурье, смотреть там, как он сказал, «натуру».
— Мне не такой крест нужен, — объяснил он. — Одинокий нужен, за околицей, вымоченный, выветренный, аж синий. Говорят, там такие остались. Обетные кресты. «Обетные» — ставленные по обету, в память о чем-нибудь. Ну там суровая зима была, половодье…
Я пообещал, что если не улечу, поеду с ним. Но, прежде чем уйти с кладбища, спросил о древке.
— Этот-то флаг? — художник задумался. — Ставили тут и флаги. Было время, когда еще до обелисков не додумались. Говорят, раньше тут флагов было много, целая демонстрация.
Ночью мне не спалось. Я лег было, поднялся и, натянув теплую куртку, вышел из гостиницы. Было совсем светло, как днем.
В двух шагах от главной улицы начиналось поле. Вернее, даже не поле, а поросшая травой полоса земли между крайними домами и тундрой.
По полю бродили кони.
Солнце по краю тундры катилось с севера на восток. Оно пряталось за тонкой прозрачной стеной перистых облаков и от этого казалось тусклым и дымным. Оно катилось, то выходя из-за крыш, то скрываясь за ними. От избы к избе, и каждый раз стены изб вспыхивали, как от пожара, желтым и красным.
Красные кони бродили по черной траве. Алые ленты дымов таяли над крышами. Мезень засыпала.
Я ходил по полю час, пока небо не залиловело и из белесого не стало снова синим.
…Я так и не уехал с художником. Утром в гостиницу позвонили: летел самолет. Спешно подхватив рюкзак и чемодан, отправился на аэродром.
И только потом, в какой-то из очередных приездов, удалось мне побывать в этих мезенских деревнях с такими удивительными названиями.
Названия северных деревень… Лежат по берегам могучей реки, переглядываются с угора на угор, перемигиваются зимними вечерами россыпью огоньков. Встречают молчаливой приветливостью высоких, пятистенных, наглухо, без окон, запечатанных с трех сторон изб. Лампожня… Палощелье… Долгощелье… Чучепала… Заакокурье…
Как-то идя по пустынной улице Лампожни, где около домов на суху лежат лодки, я встретил чистенького, аккуратного старичка. Тот, остановившись и вежливо поприветствовав, спросил меня, незнакомого, что возможно только на Севере:
— С какой целью, если можно узнать, прибыли к нам?
Я объяснил, а он, назвав свою деревню Лампочкой, сообщил, что река «ушла» из нее и возвращается теперь только в самые большие разливы. И что было время, в Лампожне играли самую северную в мире ярмарку и английские парусные корабли из Лондона становились на якоря против изб.
Узнал от него я еще, что соседка Лампожни — Долгощелье так названа из-за высоких обрывистых берегов, между которыми, как «в щели», течет река. А тогда уже и сам сообразил, что Палощелье, деревня на много верст выше по течению, стоит там, где эти крутые возвышенные берега кончались, «щель пала», началось болото, низменность.

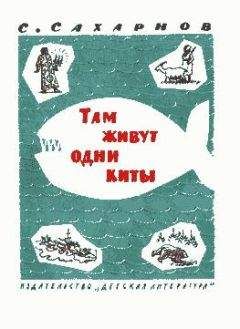


![Аллэин Флаер - Веревки и цепи. Часть первая - Веревки. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)
