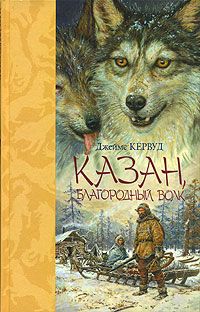Он не ел еще со вчерашнего утра, когда его покормила Нипиза чтобы удовлетворить голод, нужно было приняться за охоту, а он был слишком занят поисками Нипизы. Он мог бы проголодать еще сколько угодно, но на третьей миле от избушки вдруг набрел на капкан, в котором оказался поймавшийся белый кролик. Кролик был еще жив, и он загрыз его и съел целиком. До самых сумерек он перебегал от одной ловушки к другой. В одной из них оказалась рысь, в другой — енот. Под белым покровом снега он ощутил запах лисицы, околевшей от яда Пьеро. Но рысь и енот были еще живы, и когда хотели броситься на Бари, то сковывавшие их цепи ловушек звонко и неприятно зазвучали. Но Бари не обратил на них никакого внимания: он был занят совсем другим. Он торопился и, по мере того, как потухал день, в нем все более и более усиливалось беспокойство: до сих пор он еще не обнаружил ни малейшего следа Нипизы.
После пронесшейся снежной бури ночь была удивительно ясная, холодная, светлая, так что густые тени казались живыми. И вдруг третья идея осенила Бари. Как и все животные, он всегда подчинялся какой-нибудь одной идее, он был существом, в котором все меньшие импульсы всегда подпадали под власть какого-нибудь одного, более руководящего. Таким импульсом в эту светлую ночь явилось для Бари неудержимое желание найти и обнюхать все охотничьи шалаши Пьеро, построенные им вдоль линии ловушек и капканов, которая растянулась в обе стороны на несколько миль. Там он обязательно найдет Нипизу! Один из таких шалашей, составлявший временное убежище для Пьеро, находился за целые двадцать пять миль от сгоревшей хижины Пьеро. Я не берусь сказать, каким именно образом Бари мог догадаться о существовании этого шалаша, так как боюсь обеспокоить этим какого-нибудь завзятого ученого-натуралиста, но факт остается фактом: Бари побежал наверняка туда. В эту ночь он сделал первые десять миль. Остальные пятнадцать оказались ему не под силу. В открытых местах снег оказался ему по брюхо и был рыхлым, как пух. Часто он проваливался так, что его засыпало с головой, и ему нужно было выкарабкиваться, чтобы не быть погребенным. Три раза под утро до Бари доносилась заунывная песня волчьих стай. Один раз она раздалась совсем уже близко от него, в лесу, когда волки гнали перед собой добычу. Но их голоса уже не звали его к себе. Наоборот, они были теперь для него противны. Голоса ненависти и предательства. Всякий раз, как они долетали до него, он оскаливал зубы, ворчал и ощетинивал спину.
Была полночь, когда он добрался, наконец, до небольшой полянки в лесу, на которой лежали бревна, срубленные когда-то Пьеро. Тут же оказалась маленькая избушечка, построенная им вместо шалаша. Целую минуту Бари простоял у края расчистки, насторожив уши и нюхая воздух, и глаза его светились надеждой и ожиданием. Но не было ни дыма, ни звука, ни света в единственном окошечке этого убежища. Разочарование охватило его даже здесь, где он стоял: опять он почувствовал одиночество и бесплодность своих поисков. Какая-то тяжесть стояла во всем его теле, когда он пробирался через глубокий снег к двери избушки. Он пробежал двадцать пять миль и так устал! Но он все-таки не сознавал своей усталости до этой поры. Снегу намело к самому порогу, и тут Бари сел и горько завыл. Это было уже не простое беспокойство, как во все эти часы, которое остались позади. Теперь это был голос отчаяния и глубокой безнадежности. Полчаса просидел он, прижавшись спиной к двери и дрожа, и глядел вверх на звезды, точно хотел найти там след, оставленный Нипизой. Затем он выкопал себе ямку в снегу, лег в нее и остаток ночи провел в беспокойном сне.
На рассвете он вновь отправился в путь. Но теперь у него уже не было больше задора. Он безутешно опустил хвост и стал его за собой волочить — признак, что он был болен. Но он страдал не телом, а душой. В нем погасла надежда, и больше уж он не рассчитывал найти Нипизу. Он набрел на вторую такую же лачугу, тоже выстроенную Пьеро, но подходил к ней уже не с таким энтузиазмом, как к первой. Он брел медленно, урывками, и прежнее возбуждение от поисков уступило в нем свое место подозрительности. Он стал бояться лесной темноты.
Попадалось по пути много кроликов, и он не был голоден. К этой второй лачуге он пришел почти вечером, проведя в пути десять часов. Здесь он уже не испытал большого разочарования, так как ничего особенного и не ожидал. Вся избенка оказалась занесенной снегом чуть не под самую крышу. Дверь чуть не до половины оказалась занесенной, все окошко было в узорах. Здесь Пьеро заготовлял для себя дрова, которые и были сложены в сарайчике. Его-то и избрал себе Бари для временного пребывания и только на третий день предпринял возвращение обратно к Серому Омуту.
Он не торопился и все расстояние между второй и первой избушками в двадцать пять миль покрыл в два дня. В первой избушке он оставался три дня и только на девятый день добрался, наконец, до Серого Омута. Здесь за его отсутствие не произошло никаких перемен. На снегу не оказалось ничьих следов, кроме его собственных, которые он оставил еще девять дней тому назад. Поиски Нипизы превратились для него в ежедневную рутину, он делал их более или менее равнодушно. Он вырыл себе нору в собачнике, провел в ней целую неделю и, по крайней мере, два раза в день с рассвета и до сумерек совершал путешествие к юрте из березовой коры и к круче над рекой и возвращался обратно. Так он протоптал на снегу довольно твердую тропинку.
А затем с Бари вдруг что-то случилось. Он почувствовал в себе перемену. Его потянуло на ночь в юрту. После этого, куда бы он ни уходил и где бы он ни был, он каждую ночь стал проводить в юрте. Постелью для него служили два одеяла, которые составляли для него часть Нипизы. Здесь-то он и провел всю долгую зиму, все на что-то еще надеясь и чего-то поджидая.
Если бы Нипиза вдруг неожиданно возвратилась в феврале и застала его врасплох, то она нашла бы в нем большую перемену. Он стал более походить на волка, хотя уже перестал выть по-волчьи и только злобно рычал, когда мимо пробегали волчьи стаи. Несколько недель он прокармливался за счет ловушек и капканов, но теперь уже сам принялся за охоту. Вся юрта, и снаружи и внутри, была завалена обглоданными костями и клочками меха. Он жил в довольстве и достатке и, не испытывая недостатка ни в чем, неудержимо развивался физически и превратился в гиганта. Все более и более он становился отшельником, живя только наедине со своими сновидениями и смутными недеждами. А он часто видел сны. Он слышал в них голос Нипизы, ее зов, ее смех, свое имя и часто вскакивал на ноги, и только для того, чтобы, поскулив немного, снова же ложиться спать. И всякий раз, как до него доносился из лесу какой-нибудь звук или треск ветки, он тотчас же с быстротой молнии вспоминал о Нипизе.