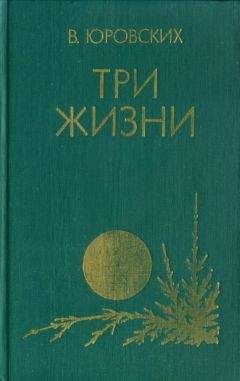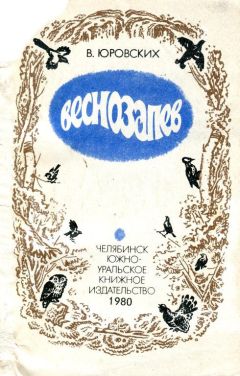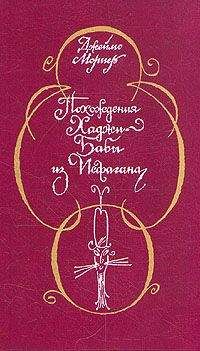Сказал другу и как наяву увидел ватагу мальцов возле самого глубокого колодца напротив колхозной конторы. Ребята постарше затравили нас «игрой» в эхо. Свесишь голову со сруба и крикнешь что-нибудь в нутро колодца, а оттуда вылетают громкие, умноженные эхом твои же слова. «Эй, ау» мы и сами умели, но парням было неинтересно, и они подсказывали нам такие слова, которые я слыхом не слыхивал от своего отца. А раз велят старшие, да еще вон как «выкидывает» колодезное эхо, мы лезли из кожи, чтоб угодить тем, кто верховодил нами.
Шибко некому было слушать нашу «игру» у колодца, и все-таки застал нас врасплох дедушка Максим. Наши «атаманы» увидели его и первыми утекли Подгорновской улицей, а мы, не замечая деда, лезли к срубу по очереди, «посылали» в колодец подсказанные словечки.
— Экая радость матерям-то! — закряхтел за нами дед Максим. — Отцы-то бы ваши послушали, а? Ни один из них эдак-то не лаялся до войны. Срамота!..
Очередной Ванька Фып стоял с открытым ртом и застрявшим в горле многоэтажным матюком, а мы уставились в землю, и точно помню, как зажгло уши и как стыдно было поднять глаза на деда Максима. При нас же выездной жеребец Орел лягнул конюха копытом в бок, но в ответ дедушка всего-то и выдохнул-сойкал:
— Эдак тебе и надо, старый хрыч!
— Не поганьте, робята, колодец и языки свои, — покачал головой конюх. — Занятно оно, когда эхо передразнивает тебя, да ведь смотря что кричит человек и ради чего? Вроде бы ты умолк, и эхо молчит, но попомните меня, что на земле случится, то и небушку аукнется.
— Боженько услышит, ага? — робко спросил Осяга.
— Какой там боженько, — усмехнулся дед Максим. — Две войны прошел — германскую и гражданскую — спервоначалу прижмет, и креститься-божиться начнешь, а опосля самому смешно. Никогда еще никакой бог не спас, никому не помог! Зло сами люди должны истреблять, чтоб добро выжило и росло. И без брани, детки. Столько слов-то хороших, а?!
С той поры из колодца доставали тяжелой бадьей студеную по любой жаре воду, и поскрипывание журавля отзывалось курлыканьем больших птиц, что весной и осенью кружили над Юровкой в жуткой высоте. Никто не «поганил» колодец, не поднимались из него в небо и бранные слова. А хороших и певуче-красивых оказалось столько, что не под силу одному человеку запомнить и передать другим.
I
Спустился с крутояра в узкую разложину, где травы по плечи, где негасимо-ало горят головки клевера и русые вихры белого донника пышут в лицо медовым теплом, где кипрей — иван-чай — выше моих волос полыхает червлеными знаменами русской рати на поле Куликовом. И сам не пойму, как дохнула земля древностью, через живые соки пестротравья и корни учуяли мои босые ноги дорожную твердь, почуяло сердце следы таких же босых ног далеких пращуров…
Легенды и были… Они живут в народе веками, неподвластны лихому глазу, дурному слову и чьей-то капризной воле. Родниками-ключиками просачиваются из непостижимой глубины времен, освещают нашу память прозрачной и чистой свежестью, будь то горестная былина о гибели верных сынов русской земли или чья-то загубленная девичья душа…
Легенды и были…
Не вода-вешница размыла разложницу, и не канава самокопанная, а захороненная езжено-хоженая дорога. И вели-торили ее мои земляки с лугов на огиб болотинок да озеринок к неприметному сыздали Вишневому логу. По его «подолу» сенокосили, а больше всего манил август пеших и на подводах за дикорослым дивно крупным вишеньем.
Когда-то, во времена Пугачева, и еще долго после него, не для продажи и собственной услады обирали спелую ягоду здешние крестьяне. Уходило вишенье в брюхастые и ненасытные утробы монахам. «Святые божьи дети» — ох недаром же священники церковные ненавидели монахов! — солощи были до вишневых наливок и настоек. А праздник — День Хмелевания по лугам исетским оборачивался все тем же оброком…
Когда заломит поясницы у баб и девок, то уж не ягоды, а кажется, большие красные слезы капают в пестери и корзины — горькой долюшкой «наливалось» по распадкам и взгоркам то вишенье Вишневого лога…
— Подавитесь-ко ядрышками, сатанье пузатое! — разгибая онемевшие спины, материли мужики монахов, а жены ихние — Офимьи да Марьи — боязливо озирались на высокие и густые вишняги. А ну как сидит где-нибудь подлый человишко, а ну как укараулит и донесет настоятелю монастыря крестьянское слово?!
Затянули травы оброчную дорогу, лишь изредка попадаются на ней засолоневшие полоски, словно неистребимо выступает из земли политый здесь когда-то подневольный пот. И последним, когда ослабла монастырская кабала, шел посюда отставной солдат Кондратий Жернаков. Шел из слободы украдистой ночью, а позади за речкой Суварыш истекала и кроваво догорала его избенка.
За смутное слово на обжор-монахов и подпалили они солдатский кров. И, не упреди волостной писарь Кондрата, тлеть бы ему головешкой, разве что и остались бы в углях и пепле солдатские Георгии да медали…
Через луга и увал за Вишневым лугом упряталось лесное озеро с островком-холмом. Было безымянное, а ныне — Кондратово. На островке поставил солдат зимовье, там и доживал он свой век — святее всех святых для крестьян округи. Всем миром снабжали Жернакова земляки — летом на долбленом осиновом боте достигали острова, а зимой не давали остыть и «уйти» в снега заветной тропе.
Сказывают, подолгу вспоминал Кондрат войны — походы за родное Отечество, и мудро наставлял мужиков, как им жить, когда не пожарные языки, а красные флаги заколыхались на домах в Далматово. А пожить при народной власти не довелось вечному солдату. Но по счастливой случайности закрыл глаза ему комиссар Зырянов с отрядом бойцов, что завернул попутно на зимовье Жернакова. Они-то с воинскими почестями и похоронили Кондрата на острове, и комиссар, не забывая, как надо экономить патроны, приказал дать трехкратный винтовочный залп над холмиком солдата Отечества, полного Георгиевского кавалера Кондратия Жернакова.
…По сегодня наведываются земляки Кондрата в раздольное разложье Вишневого лога — собирают травы в шлемоглавые стожки, грибы ищут по лесистым берегам, вишенье набирают впрок — кто на варенье, а кто и сушит. Вишняги берегут и не трогают барсучьи норы. И мне захотелось навестить Вишневый лог, с восточного крутояра обмирать душой, глядя на поляны и лесистые холмы по логу: спуститься, в левый «рукав», где осинником по калиновой низине выструивается холодно-светлый родник. К нему не столь людских троп, сколько козлиных и барсучьих. Круглый год поит родник всех, кто поклонится глубинно-свежей водице.