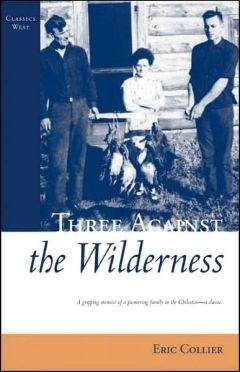С особенным воодушевлением Лала рассказывала о ручье. В дни ее детства, согласно обычаям племени, каждая индейская семья имела закрепленные за собой места для охоты. Там ин дейцы расставляли капканы на пушного зверя и охотились на чернохвостых оленей, спускавшихся большими стадами с холмов на зимовку у реки Фрейзер. Истоки ручья Мелдрам были наследственными охотничьими землями Лалиной семьи, и ни время, ни события долгих последующих лет не могли изгладить из ее памяти хотя бы частицу воспоминаний о местах, связанных с ее детством.
Она ворошила самые далекие страницы прошлого, хранив шиеся в тайниках ее неиссякаемой памяти. Она рассказывала нам о крике пролетных канадских казарок, о том, как они, сложив свои мощные крылья, отдыхали на поверхности озера, о том, как тучи крякв и других диких уток закрывали собой небо в час заката, когда птицы поднимались с болот. За плотиной, построенной бобрами, ручей кишел огромными форелями. В течение нескольких мгновений они отдыхали, набирая силы для того, чтобы одним броском переправиться через плотину в более спокойную часть ручья. Когда речь шла о бобрах, она, втягивая в себя воздух и прищелкивая языком, имитировала шумные удары их хвостов по прохладной поверхности вечерней заводи. Она пыталась с помощью жестов дать нам представление о норах ондатры на берегу ручья, о том, как греются на солнце, забравшись на хатки, построенные бобрами, пушистые норки и выдры.
Однажды, примостившись у костра и рассматривая морщи нистое лицо старой индианки, я сказал:
— Теперь, Лала, нет форелей, только чукучаны[6] да рыба-скво. И теперь индейцы больше не приносят в лавку шкурки бобров.
Она покачала головой. Ее костлявые пальцы нащупали мою руку и впились мне в тело. Подняв на меня свои невидящие глаза, она быстро сказала:
— Ничто теперь нету. — Она слегка ослабила пальцы и внезапно спросила: — Почему, знай?
Я немного подумал и наугад спросил: «Из-за бобров?» — «Айя, бобер!» — ответила она.
Я наполнил ее трубку табаком, который принес из лавки, передал Лале и поднял горящий прутик. Лала взяла в рот черенок трубки, глубоко затянулась, задержала дым во рту и затем стала медленно выдыхать его.
— Когда белый люди ходи нету, — продолжала она объяснять мне, — индеец убей бобер, когда мясо надо, одеяло, шкура надо. Мало убей. Много бобер в ручей есть. Белый люди ходи, табак дай, сахар дай, плохой вода дай, когда индеец бобер шкура носи. Индеец сумасшедший ходи. Весь бобер убей в ручей.
Ее пальцы снова вонзились мне в руку. Хриплым голосом она спросила:
— Почему белый люди индеец скажи нету: «Немного бобер оставляй надо, маленький бобер второй год ходи». Почему
белый люди скажи нету. «Бобер нету, вода нету?» Вода есть, форель есть, мех есть, трава есть.
И после минутного раздумья она сказала:
— Почему ты ходи к ручей нету, почему ты пускай опять бобер в ручей нету? Ты молодой, охота, капкан люби. Ручей есть, много бобер опять есть, форель ходи опять. Утка, гусь ходи опять, большой болото полны ондатра опять, как когда моя маленький девочка есть. Айя! Почему ты и Лили ходи к ручей нету? Почему ты пускай в ручей бобер нету?
Таким был разумный совет этой старой индианки, которая видела, как в ее край пришел белый человек, и делила ложе с одним из белых людей, когда ей было только пятнадцать лет, и которая умерла через двенадцать месяцев после того, как ей исполнилось сто лет, не потеряв ни одного зуба и не узнав, что такое зубная боль. Когда смерть свела ее пальцы, Лала этого не почувствовала: боль не коснулась ее старого сморщенного тела. Она умерла, как умирает старый дуб, слишком долго простоявший в лесу. Мгновение назад она спокойно отдыхала на своем соломенном тюфяке, безмятежно дымя трубкой. Когда табак перестал дымиться и чубук остыл, она бережно положила трубку на табурет у кровати и вздохнула: «Моя теперь уставай. Моя скоро спи». Вот как умерла Лала.
Ее похоронили на краю заросшего травой обрыва над ма ленькой бревенчатой избушкой, где она уже в старости прожила так много лет. Маленькая индианка отделилась от группы индейцев, невозмутимо стоявших у могилы, когда грубый деревянный гроб спускали туда на веревках. Ребенок подбежал к могиле, заглянул в нее и просто сказал: «Лала совсем уходи теперь». Я стоял у могилы и читал выдержки из похоронной службы по молитвеннику, который привез из Англии: «Земля земле, пепел пеплу, прах праху…». Принцесса королевской крови не могла бы пожелать большего.
В то время, когда умерла Лала, в Чилкотине было мало постоянных линий капканов. Не много их было и во всей округе. Поэтому ловля пушных зверей велась по принципу «лови, сколько можешь» и по пословице «каждый за себя, а черт за всех». Выражение «охрана природы» тогда еще не существовало в лексиконе торговцев пушниной. Всем было ясно, что площадь водоемов в этом крае медленно, но неуклонно сокращается, но ни у кого не было достаточной проницательности, чтобы связать эту беду с поголовным уничтожением бобров. Это пони мала только Лала и, может быть, еще кое-кто из стариков ее племени. Но никого не интересовало мнение индейцев по этомувопросу. И меньше всего этим интересовалось правительственное учреждение, ведавшее водными ресурсами в этом округе. И ко нечно, никто не прислушался бы к их совету, даже если бы они его дали, никто, кроме меня и Лилиан.
Мы вместе взвесили все «за» и «против» этого рискованного мероприятия. Меня в нем привлекал тот образ жизни, который я всегда любил (я уже понемногу расставлял капканы, хотя попадались туда только койоты, спускавшиеся по ночам из леса и рыскавшие в поисках добычи вдоль ручья поблизости от фактории). Лилиан привлекала возможность иметь свой соб ственный дом и все, что у женщины с ним связано. Хотя на фактории я получал только сорок долларов в месяц и харчи, я мог бы за два-три года скопить достаточно денег и купить все необходимое для того, чтобы отправиться к ручью. Препятствий было немало, но молодость не боится препятствий. Итак, мы поставили себе цель: вместе отправиться к ручью и предоставить судьбе все остальное.
Я обратился в департамент, ведавший вопросами охоты в Британской Колумбии, и получил монопольное право расставлять капканы в окружавших ручей лесах на площади около ста пятидесяти тысяч акров, от истоков Мелдрам-Крика до точки, находящейся примерно в миле от устья. Казалось бы, это была неплохая сделка. За это я должен был платить департаменту огромную сумму — десять долларов в год плюс кое-какие отчисления в пользу государства с каждой шкурки пойманного зверя. И я же должен был содействовать «охране и размно жению всех пушных зверей в округе». Но увы, скоро мы с Лилиан увидели, что там уже почти нечего было охранять.