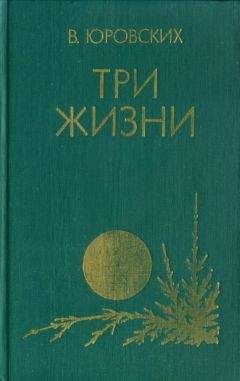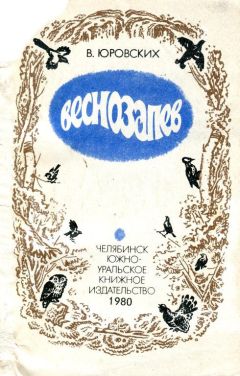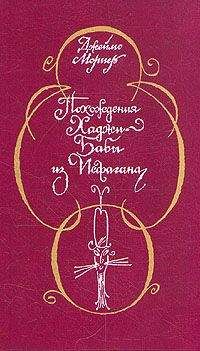— И как они узнали, что черемухи видимо-невидимо осталось на зиму?! — поразился невольно я свиристелям.
— А они завсегда появляются на кусте раньше остальных, — прищурился Иван на добродушно-доверчивых хохлаток. — Памятливые птахи!
Негромко и незвонко перекликаются меж собой свиристели. Куда им до соловья! — да ведь как приятно по этой поре слушать серебринки птичьих голосов. Сдается, не только мы, а и гостеприимный куст-кормилец радуется свиристелям, и чудится мне, как вышептывает: «Кушайте на здоровье, милости просим!»
Иван что-то замечает и пролазит в середину куста, наклоняется и машет мне рукой. А когда я продираюсь к нему, он дивится:
— Смотри-ка, вон катыши-шарики из ягод!
— Ну и что?
— Да это же барсучина ел черемуху! Живет он на берегу Назаркова болота, отсюдова через пашню. Ни разу не видел, чтобы он ягоды черемухи ел. Ах, да барсук-то, наверное, лечил желудок от расстройства! Вот шельмец, а?!
Мы громко хохочем с братом и прямо перед глазами свиристель с раскрытым клювом вопросительно и недоуменно смотрит на людей. Видимо, думает, будто смеемся мы над ним, этаким симпатичным и аккуратным.
Обедаем с братом на мягкой овсяной соломе, и он задумчиво рассуждает:
— Сколько раз меня сманивали в Уксянку Мария с матерью (это вторая жена Ивана), а как я покину Пески? Тут родился и тут пригодился, с пятнадцати лет на тракторе начал работать, каждое поле на столько рядов пахано, боронено и засеяно. И на комбайне хлеба обмолачивал везде, и здесь, у Веселого куста.
— Село-то, пожалуй, и похуже Уксянки. И можно бы поменяться, переехать. Мало разве разъехалось наших по городам и окрестным селам! Да вот память, от памяти куда денешься? Хоть на край света подайся, все равно не выветрится из меня. Здесь она на веки вечные! — проводит ладонью Иван по волосам на голове и касается рукой груди.
Память… Прав мой братан, вкладывая в понятие «память» всю свою прожитую жизнь, жизнь родителей, брата, жены и сына, что покоятся за околицей села в родимой земле. И я, разбуженной памятью, вижу отсюда поредевшую на жителей родную Юровку и скрытую тальниками речку Крутишку, до кустика и деревца знакомые леса и болотца.
Эх, Ваня, Ваня! Да куда, куда мы с тобой стронемся с родины, хватит ли у нас сил забыться и расстаться с Памятью?!
Терентию Семеновичу Мальцеву
Добрая штуковина — дальнезор-бинокль, если смотреть, конечно, правильно — в окуляры линз, а не в стекла объектива, как пробовал однажды егерь — дядя моего приятеля. Сколько он ни пыхтел, а так и не различил, кто же на кромке дальнего березового колка — зверь или человек?
— Чо-то, Венко, ни хрена не вижу! Темно, как в Африке… — сознался старик.
Вспомнил незадачливого «подзорщика» и ухмыльнулся над ним, когда поднялся с-под горы от речки Боровлянки и устроил привал на лысине увала. Вспомнил вовсе не ради потехи: полдня таскал на шее увесистый двенадцатикратный бинокль в футляре черной кожи. И клял себя за мальчишество. На кой черт его прихватил с собой по грибы, только мешал он мне склоняться и радоваться своей находке. В ликовании сунешься к румяно-поджаристому карапузу-боровику, а бинокль бац тебя по колену! Лучше бы комар кольнул воровски или цапнул настырнопривязчивый паут…
За Боровлянкой, за широкой просекой, по уютному и чистому березняку на взгорках столько сухих груздков высмотрел — снял надоевший бинокль и повесил на сушину. И покуда обласкивал грузди да аккуратно подрезал упругие корешки, покуда клал их в корзину под самую дужку и в располневший трехведерный рюкзак — совсем позабыл про бинокль. Лишь у лопушистой боровлянской омутины и спохватился: где же моя никчемная ноша? Сейчас бы, когда вдоволь натешился грибами и умылся мягкой, непрогретой в лопушинах боровлянской водицей, в самую пору обозреть сосново-березовые увалы берегами Боровлянки, найти в слегка отгоревшем летнем небе пискляво плачущего канюка. Вот и сгонял себя снова за километр на прежние места, и пуще того обругал: дурень, здесь же безо всяких линз видать, как теснят друг дружку и выпирают из банно-прогретой земли грузди, а по осиннику и болотцу красно подосиновиков, словно в пору листопада!..
Сел я на маковку бугра и решил тут, на обдуве, досыта наглядеться в бинокль. И станцию Лещево-Замараево с шиферно-белеющими крышами заготзерна приблизить, и дальне-синее исетское поречье, и ивняково-луговое раздолье, где зароды сена разбрелись огромными сытыми конями, и особенно того, кто появится на асфальтированном шоссе. Любопытно рассмотреть эвон ту «летящую птицу»-мотоцикл. Люди на нем ведать не ведают обо мне, а для меня с биноклем они ну совсем-совсем рядышком!
Ага, кто же там мчится-купается в летне-пахучем воздухе?
За рулем зеленого «Урала» молодой мужчина — белобровый, улыбчивый, а шлем делает его похожим на ядреный подосиновик. В коляске свободно устроилась симпатичная женщина — ясно, жена мотоциклиста. Синий шлем на ней, словно легкий ситцевый платок, а из-под него вихрятся спелым овсом пушистые, не подвластные моде волосы. Смеются, о чем-то кричат друг дружке, а женщина то и дело показывает по сторонам руками. Однако пузатая сумка вишневого цвета подпрыгивает на коленях и напоминает о городских покупках. Не придерживай ее — дома она окажется полупустой.
Какая милая и славная пара! И до чего же муж с женой похожи друг на друга, по народному поверью — в таких случаях пара на всю жизнь, — радуюсь я за них, да тут же прищемила сердце резкая боль, неизбывная и неоглохшая во мне с годами… Господи, как, как похож мужчина на моего крестника — непонятно и нелепо потонувшего с мотоциклом… А разве чужая женщина в коляске? Да нет же, нет! Моя веселая синеглазая крестница, за одну темно-ветряную майскую ночь овдовевшая с двумя девчушками на руках…
Я начинаю плохо видеть рвущийся все ближе и ближе ко мне ликующий мощным мотором мотоцикл, будто кто-то задышал с обратной стороны на линзы, и они затуманились, запотели. Всего-то и успел машинально отметить: на выбоине асфальта коляску подкинуло, что-то вылетело из сумки на дорогу, а женщина взмахивала руками и смотрела туда, где внизу за бором и ольховой согрой по Боровлянке, за невидимой глазу Исетью светлело каменными домами по крутояру село Крутиха.
Бинокль шлепнулся мне на грудь, и сам я повалился на кустик желтого донника, сдавил ладонями левый бок… Не может быть, не может быть такого… В Крутихе живет отец крестницы Костя Клименко, а близ села за бугром застенчиво припала к старшей сестре — Исети моя родимая речушка Крутишка…