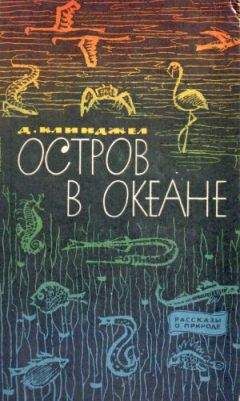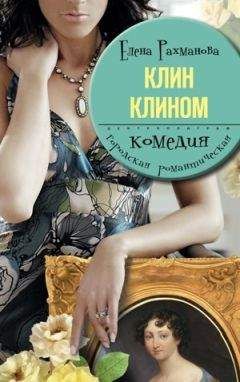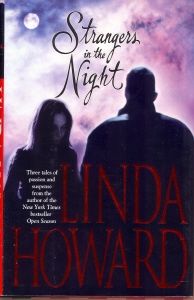Бок о бок мы отправились в путь — гордо высящаяся шхуна и крохотный иол. Наши мачты едва доходили до лееров на ее борту — так, во всяком случае, нам показалось, когда она величественно пронеслась мимо и направилась в сторону восходящего солнца. Мы наблюдали за ней с дружеским участием — ведь ее создали те же руки, которые с таким старанием строили наше суденышко.
В пятнадцати милях впереди лежали два мыса, едва различимые в дымке, — выход в океан. Позади остались Тимбл Шол, Уиллоуби, но затем обещанный северо-западный ветер стих, и мы задрейфовали. Начался прилив, и нас понесло обратно. Казалось, нам вообще не суждено выбраться из Чесапикского залива. Но когда наше раздражение достигло предела, провидению, по всей видимости, надоело водить нас за нос, и, смягчившись, оно послало нам на подмогу судно береговой охраны. Заметив, как нас относит приливом обратно к берегу, капитан подошел к нам, чтобы узнать, куда мы держим путь. Мы ответили, что направляемся к острову Сан-Сальвадор. После этого капитан произнес что-то вроде «вот так-так!», дал задний ход и приказал матросу бросить конец, а нам — его закрепить. Еще не понимая, в чем дело, мы подчинились и минутой позже обнаружили, что со скоростью восьми узлов летим в открытое море. Вскоре мы миновали черно-белый маяк на мысе Генри, обогнули кромку суши и вышли на простор океана. Нас, наверно, буксировали бы еще дальше, но конец оборвался. Несколько человек поднялись к нам на борт, проверили бумаги и пожелали счастливого плавания. Затем, отсалютовав свистками и целым хором «до свидания», их судно ушло. Словно вняв нашим молитвам, подул ветер и понес парусник в просторы Атлантики.
Что было начиная с этого момента и до трех часов ночи, я плохо помню. Большинство событий за этот промежуток времени просто выпало из моей памяти, и их удалось восстановить только по рассказам и записям Колмана.
Кажется, после того, как береговая охрана ушла, мы взяли курс на ост-зюйд-ост, в открытый океан, чтобы подальше уйти от земли на тот случай, если ветер переменится. Берег постепенно исчезал и скоро совсем скрылся из виду. Солнце садилось в тяжелых тучах, темной массой громоздившихся на горизонте. Но северозападный ветер дул с прежней силой, а больше нам ничего не было нужно. Наступила ночь, зажглись звезды — на суше я никогда не видел таких ясных звезд. Они были повсюду, кроме той части неба, которая тонула в совершенно беспросветном сумраке, если не считать слабых отблесков далекого маяка. Мы несли вахту по очереди — пока один находился на палубе, другой спал в каюте. Прошла первая вахта, вторая — и все это время мрак распространялся по небу, скрадывая одну звезду за другой, заслоняя Млечный Путь, покрывая зенит своим темным покрывалом. К началу третьей вахты весь небосклон пропал во тьме, и мы остались лишь при ходовых огнях да слабом огоньке нактоуза. Вокруг простиралась сплошная чернота, которая казалась живой благодаря мириадам разнообразнейших звуков, доносившихся с поверхности воды.
Хотя было холодно и дул резкий ветер, на океане словно лежала какая-то гнетущая тяжесть, и ощущение тяжести увеличилось еще больше, когда к концу третьей вахты ветер спал и переменил направление. Тем не менее нас это нисколько не встревожило, и мы спокойно продолжали путь. На вахте стоял Колман. Когда ветер переменился, он изменил положение руля и угол постановки парусов. Это было около двух часов ночи. В три он спустился в каюту и растолкал меня.
— Выйди на палубу, — сказал он, — похоже, надвигается шторм.
И действительно, даже в каюте можно было расслышать, что в хоре звуков, доносящихся с воды, появился новый, беспокойный тенор, перекрывавший шепот волн.
Мы взглянули на барометр — он стоял очень низко. Я никогда не видел, чтобы барометр стоял так низко. Торопливо натянув плащи и куртки, мы вышли на палубу. Со стороны моря бежали ровные, большие валы, слишком большие для ветра, который сейчас дул. Мы знали, что это означает.
Я стал у штурвала рядом с Колманом.
— Пожалуй, нужно убрать часть парусов, — пробормотал я. — Пока не поздно.
Больше я ничего не успел сказать — случайная волна, вырвавшись из темноты, подхватила корму, подняла ее высоко над водой и, пройдя к носу, бросила суденышко на бок.
Когда корма поднялась, громадный грот и тяжелый гик с тошнотворным треском перекинулись на середину. Сотни фунтов холста, дерева и железа, брошенные сильным ветром, обрушились прямо на меня, и, потеряв сознание, я повис на леерах.
Сколько я лежал, не знаю. Колман ощупью нашел мое неподвижное тело, перетащил к штурвалу и сел там, одной ногой придерживая меня, чтобы я не свалился за борт. Потом с моря пришел стонущий звук, нараставший с каждым мгновением. Этот дикий хор раздираемых ветром волн невозможно описать словами; только тот, кто сам слышал его, может представить себе, что это такое. Началось то, чего мы больше всего боялись.
Принеся с собой волну холодного воздуха, разразился шторм. Наше крохотное суденышко с неубранными парусами накренилось под порывом ветра, накренилось так, что иллюминаторы ушли под воду, и казалось, мы вот-вот перевернемся. Среди хлопьев пены и бурлящей воды, удерживая мое тело, Колман пытался убавить паруса; он повернул штурвал и развернул судно против волн. Самое поразительное при этом было то, что наши паруса не порвало. Они уцелели просто чудом. Еще в Чесапикском заливе ловцы устриц и яхтсмены смеялись над нашим тяжелым такелажем и парусами, говоря, что они впору трехмачтовой шхуне. Но наша осторожность оказалась совсем не лишней. Она спасла нас той ночью и не раз спасала впоследствии.
Прошло целых полчаса, прежде чем я очнулся. Сначала я очень смутно сознавал, что происходит, но по мере того, как холодные волны одна за другой перекатывались через меня и стекали по желобам, сознание прояснялось. Голова мучительно болела. Я страшно замерз— я лежал промокший до последней нитки на леденящем ветру.
Смутно помню ногу Колмана, прижатую к моему боку, давление ее то ослабевает, то усиливается — он занят штурвалом. Я пытался вспомнить, что со мною случилось, но не смог, не могу и по сей день. Я встал на колено, снова упал, потом, преодолевая боль, с трудом сел. Мне казалось, словно у меня сорвало с костей мышцы шеи и плеч. Прошло еще десять минут, прежде чем я полностью пришел в себя. И тогда только, несмотря на ужасную боль, до меня стало доходить, насколько серьезно наше положение.
Необходимо было убавить паруса.
Увидев, что я уже сам могу о себе позаботиться, Колман поставил судно по ветру, чтобы убавить паруса. Брать рифы в хорошую погоду — дело несложное и на таком маленьком паруснике, как наш, занимает не больше пятнадцати-двадцати минут; но в разгар шторма, когда судно швыряет и по всей палубе прокатываются волны, это нелегкая работа. Вдобавок хлопанье парусов отдавалось у меня в голове буквально взрывами боли.