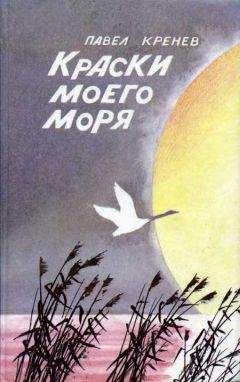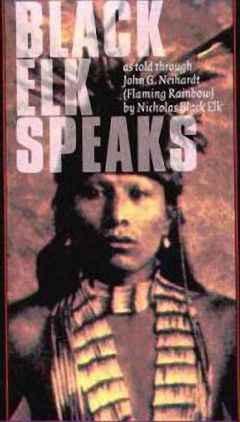— Хотел на улицу выйти, а тут Левонтий завыл, ну я в окошко глянул…
Сердце у Шурки вдруг сильно стукнулось раз, другой, потом замолотило на полные обороты, отдаваясь в висках гулкими, горячими ударами. Он спросил:
— Ну и чего там… в окне?
— Да эта, ну, твоя зверюга, ходит.
— Рысь? — Шурка непонятно зачем скользнул с койки и сел на корточки рядом с Колюхой.
Вдвоем на четвереньках они подкрались к окошку и осторожно, словно опасаясь, что рысь может царапнуть в лицо, выглянули из-за боковых косяков на улицу.
Снаружи разливался тихий, желтый лунный свет, жуткий и мертвый.
— Вон она, на помойке, — зашептал Колюха.
Рысь Шурка разглядел не сразу потому, что она не шевелилась и сливалась с можжевеловыми кустами, тоже неестественно желтыми, как все под луной. Зверь стоял на прямых, длинных ногах, вытянутый и увеличенный полумраком, высоко задрав морду, как бы кого-то выискивающий в ночи. Потом голова рыси повернулась к избе, и на ней зажглись два маленьких ярко-зеленых фонарика, направленных прямо на Шурку и Колюху. Оба они, будто застигнутые врасплох светом рысьих фонариков, выслеженные, разом отшатнулись от окошка, сели на пол.
— Это она меня ждет, зараза, — сказал Шурка тоном человека, которому перед казнью дали последнее слово.
— А может, меня, почем знать?
— Да не, меня. Счет свести хочет.
Колюха вдруг встрепенулся и, не вставая с карачек, пополз к углу, в котором стояло ружье. Быстро с ним вернулся и протянул Шурке.
— Саня, ожедерни, а, не робей, вмажь. Не отстанет ведь. Мне не попасть…
Шурка заблестел на напарника возмущенными и испуганными глазами.
— С этой пукалкой! Что, не видишь котяру! А подраню… она избу по бревнышку разнесет, обоим пуза вскроет. Пулемет тут нужен.
До утра рыбаки не спали. Постанывали и скрипели кроватями. У двери жалостно и тоскливо выл Левонтий.
Утром в невод попали три десяти — двенадцатикилограммовых рыбины. Опять пошла семга.
* * *
На другой день к обеду пропал Левонтий. Отсутствие его сразу заметили, потому что кот мог где-то пропадать, но в полдень, когда чистилась и скоблилась свежая рыба, и с треском разлеталась в разные стороны серебряная чешуя, и в изобилии были ароматные рыбьи потроха и головы, когда избу наполняли запахи кипящей ухи, Левонтий, хоть и сытый, всегда крутился где-то поблизости, терся о ноги, демонстрируя полное расположение к рыбакам, ныл и клянчил еду.
Сегодня он куда-то запропал. Когда наелись ухи, Михаил сгреб кости в пустую миску, вынес на крыльцо и вывалил в корытце, выдолбленное из куска толстой доски специально для Левонтия. Позвал кота, даже покричал, но впустую.
Пока пили чай, все удивлялись, что такое с котом? Рыбу никогда не пропускал. И Михаил, и Шурка вида друг другу не подавали, но у обоих на душе висело нехорошее предчувствие, что с Левонтием что-то случилось. После обеда Михаил не прилег, как обычно, а вдруг засобирался, взял топор и пошел на берег, мол, захотел глянуть, не выбросило ли на заплесток пару-тройку строевых лесин, мол, баню надумал тюкать… Шурка знал, что Колюха пошел искать Левонтия. Он пошел бы и сам, но не хотел лишний раз бередить напарника. И так тот уже поговаривать стал, что рысь одолела, что за порог озарко[11] выйти теперь…
Михаил нашел кота около вешал, на старом деревянном настиле, проросшем теперь травой, пробитом кореньями. Под настилом были мышьи гнезда, и Левонтий туда повадился бродить. Колюха это еще раньше заметил.
Левонтий лежал на спине с вытянутыми лапами в лужице крови. Пасть у него была оскалена, он был весь изодран. Вокруг на песке отпечатались огромные рысьи следы.
* * *
Колюха собрался съезжать с тони. Он демонстративно громко бухал сапожищами, бегал из угла в угол, складывал пожитки в пестерь, нервничал. Шурка нервничал тоже. Ему не хотелось оставаться на тоне одному. Но чтобы не унижаться, виду не подавал, сидел на лавке у печки и вырезал из березы плашки для ножен. Михаила он не уговаривал, знал, что бесполезно, и все же, когда тот забренчал посудой и присел глотнуть на дорогу чайку, Шурка попробовал:
— Может, надумаешь остаться-то, Миша?
Колюха аж закашлялся:
— Шутишь, а! Сегодня вон опять следы. Вкруг дома всю ночь шлялась! Хотел мамане вересу нарубить на помела, к кусту подошел, а там лежка.
— Нужон ты ей порато[12].
— Нужон не нужон, а караулит она нас. В лес не отойти… Затряхнет, как Левоху! Когти, как крючья ш-щучьи… Затряхнет. Из-за тебя все, паразита, навел беду…
Колюха чай пил вприкуску. Окунал в остывшую кружку куски сахара, подолгу промокал их там, потом хрумкал и злился.
— Поживи, ладно, поживи тута один. Скоро она тебе на шкирку-то с лесины али откуда скочит, ско-оро! Вытрясет опилки-то с башки, вы-ытрясет!
Шурка попытался козырнуть еще кое-чем:
— Заработки-то, Миша, пошли какие, в каку осень видели? Семга, смотри, прет, как прорвало, спасу нету…
Колюха это и сам понимал, но аргумент не подействовал.
— А нужны они мне больно будут, ежели я с прокушенным брюхом на бережку буду стыть. Не-е!
И Михаил допил чай. Сейчас уйдет… Шурка высказал главное, наболевшее:
— Дак что, я ей сдаваться должен, зверюге этой!
Колюха пристукнул об стол пустой кружкой, нервно хохотнул и посмотрел на Шурку, как на человека, у которого явно не все дома и которого ему жаль.
— Борец! Сражаться с ей задумал! Погляди… ха!.. Да она с тобой легше, чем с Левонтием. Это ж матерь! Ты же сынка у ей сгубил, балбесина, почто-то! Борец…
Уже встав и набросив на спину пестерь, Колюха, чтобы расстаться хоть более-менее мирно, добавил напоследок:
— Я вот про тебя, борца, Матвеичу расскажу, он тебе задаст.
И ушел. И Шурка остался один.
* * *
Темень непроглядная. Низкие черные тучи закрыли небо. Они несутся почти над самой крышей, их царапают елки, что растут на угорах, подступающих к морю. С северо-запада задувает сырой и холодный «побережник». Облизывая холмы, он падает в пологое ущелье — ручьевину, разгоняется по нему и набрасывается на избу, прижавшуюся к открытому морскому берегу.
Шурка стоит на крыльце, держится за расшатанные, подпорченные временем дощатые перила и смотрит на темный шумный лес. Ворот фланелевой клетчатой рубашки у него расстегнут, по лицу ударяют мелкие злые дождевые капли, редкие волосы слиплись и мотаются на ветру тонкими кисточками. Но Шурке не холодно сейчас и не страшно: вечером он хлебнул из бутылки, оставшейся еще от Колюхи. Шурка, конечно, знает, что страх снова вернется. И он опять не будет спать ночами, будет вздрагивать от каждого шороха за стенами, а утром (прежде, чем выйти на улицу) долго выглядывать в окна и, приоткрыв входную дверь, сначала просовывать в нее ружье…