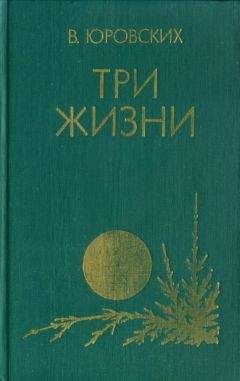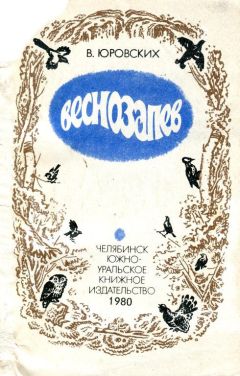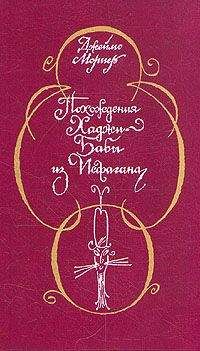— Слушай, Федя, на хрена тебе хворому трястись за семьдесят верст? Что им приспичило, что ли? Ты, Витька, чего потакаешь Верке? Она, того гляди, скоро самолет потребует или золотую рыбку! — загорячился Попов.
Виктор отвернулся и смотрел в угол, где на тумбочке у дяди стоял самый обыкновенный старенький телевизор, а в простенке за рамкой фотографии трех поколений Гаевых. Конечно, прав Николай Иванович, конечно, бессовестно срывать с постели дядю-инвалида, но… Вера, Вера-то что скажет?
— Я пошел, Федя! — резко поднялся Попов. — Вечерком наведаюсь, ежели племяш живьем тебя доставит. Цветной телевизор…
Когда захлопнулась дверь за Николаем Ивановичем, Виктор осмелел:
— Лёлько, ты бы пиджак с орденами надел, а?
— С орденами?! Ты, крестник, говори да не заговаривайся! Я его ношу два-три раза в году и то последние десять лет. С сорок пятого в сундуке лежали мои награды.
Орденов у Федора Семеновича без юбилейных медалей достаточно: две Славы, два Отечественной войны и Красная Звезда, не считая трех медалей «За отвагу», медалей за оборону и освобождение городов. Не хватало, чтобы из-за телевизора козырял наградами. Стыдобушка!..
Степанида, очевидно, зашла в магазин, и Федор, не сказавшись ей о поездке, втиснулся на переднее сиденье легковушки темно-вишневого цвета — единственную в колхозе с такой окраской. Племянник вел машину так же бережно и осторожно, как ездил на тракторе. «Молодец, наша порода!» — мысленно восхищался Федор Семенович. Ему стало даже легче, и боли куда-то подевались…
На крыльце магазина, где продавались телевизоры, случайно встретился друг Виктора, поменявший диплом зоотехника на токарный станок. Парни обнялись, на время забыли о Федоре, а когда бывший зоотехник Генка Морозов узнал, за чем и с кем приехал друг молодости, захохотал:
— Какой дурак выдумал, что цветные телевизоры одним инвалидам войны продаются?! Да вон их, хоть экскаватором черпай — бери не хочу любой марки!
В магазин Федор Семенович зашел, но его в отделе радиотоваров бесцеремонно оттерли молодые парни, и он издали, через головы наблюдал, как Виктор с Геннадием придирчиво выбирали цветной телевизор. Гаев уковылял к машине, там о нем и вспомнил просиявший и опьяненный удачей племянник.
— Дядя Федор, ты на заднее сиденье устраивайся и держи на коленях коробку с телевизором. Да смотри, чтобы не встряхнуло его! — скомандовал Виктор. Рядом с собой на переднее сиденье он усадил друга-отпускника. Не столь неудобно было Федору Семеновичу держать телевизор весом чуть не в центнер, сколь больно вновь занывшему обрубку правой ноги. Ладно, пущай наговорятся о сельских новостях Виктор с охломоном, окончившим сельхозинститут на колхозную стипендию. А ему, старому дураку, так и надо, раз не сумел отказаться там, дома.
— Дядя Федор, ты уж на своих двоих дотопай, а мы с Геной поедем к нам устанавливать телевизор. Вера с фермы заявится, а в доме уже праздник, — объявил племянник, хотя не ему ли знать: полтора километра по селу нужно дяде добираться на «своих двоих».
«В кого он такой уродился?! — мучил себя Федор Семенович, одолевая нелегкий путь к своему дому. — Отец с матерью сроду не были жадными и неблагодарными, без зова-приглашения помогали и родным, и односельчанам. Ага, да ведь не уродился Виктор, а переделался под лад жены и тещи. Сватья правдами-неправдами пробивалась на легкие и кормные должности: учетчик, бухгалтер, продавец сельмага. Оставшись вдовой солдатской, смазливая и бойкая, у нее и прозвище-то «Шмара», вечно она охаживала уполномоченных из района, а где там было устоять мужикам-председателям.
Его крестника Витьку прибрали они к рукам в первые же дни, когда старшина-пограничник Гаев вернулся со службы. Вся грудь в знаках отличия и медаль за охрану границы. Ему и гражданский костюм будущая теща загодя купила, и на лесть-ласку не скупилась. Специалистка…
Эх, Витя, Витя!..»
В доме Черкасовых темнели окна, а у Гаевых свет горел даже во дворе. В креслах полукругом блаженствовала важная и довольная Вера с подружками-доярками, чуть в стороне Виктор и ребятишки.
После оглушительного концерта Аллы Пугачевой на экране появился седой мужчина и, глядя прямо на Виктора, стал читать свои стихи:
— Сегодня мы, участники войны,
Везде и всюду, как на пьедестале.
Таким вниманием окружены,
Что от вниманья этого устали…
Виктор скрипнул стулом и шагнул к вешалке.
— Куда ты, Вить, интересно же! — заворковала Вера.
— Покурю на улице, — пряча глаза, соврал он жене и вышел в ограду под окна. Но и здесь настиг его голос поэта-фронтовика:
— Мы по России-матушке по всей,
Как снег, белеем и, как снег же, таем.
Им завтра будут книжки да музей
Рассказывать о были грозных дней,
Которую мы лучше книжек знаем.
Сигарета жгла пальцы, а Виктор не чувствовал боли, и не было силы сдвинуться с места. Стихи неизвестного человека сковали ноги.
А что, что он, Виктор, знает про своего крестного Федора Семеновича Гаева?
I
С самого раннего утра, как только поковылял муж на автобус, все валилось из рук Варвары Филипповны, никакая работа не шла на ум. Засмотрелась в окошко — хлеб «пересидел» на поду печи, и, не будь удачной квашня, — витушки впору замачивай на корм уткам. Добро еще, что Иван Васильевич уважает поджаристую корку. В молодые годы, бывало, ест да приговаривает ребятам:
— Кто хлебушко с угольком кушает, тот на воде не тонет и в огне не горит!
За пересол тоже не бранился, и тут у Него приговорка имелась:
— Ешь солоней, будет кожа ядреней!
Стояла перед челом печи сколько времени, а петушиный суп забыла вовремя заправить картошкой и морковкой. Наварила и натолкла с отрубями мелкой картошки для уток — не вспомнила бы, не приведи сама табун утят старая крякуха Катя. Пошла на колодец по воду и чуть не вернулась с пустыми ведрами. Спохватилась возле огуречных гряд с увядшими плетями клечей.
— Отошло летушко, отполивала я огурчики, — вздохнула Варвара Филипповна и даже испугалась легкости коромысла: чего же оно плечи не давит, чего же она капельки не сплеснула? Хвать-похвать, а ведра-то сухие!
Сама себя не узнавала Варвара, давным-давно не помнила неспокойной и взволнованной до забывчивости. Не помнит со дня начала войны и проводов Ивана на фронт, а когда похоронная пришла — обезумела она и почти ничего не удержалось в памяти о том летнем дне. Одно и припоминает, как подал левой рукой письмо директор детдома Григорий Петрович Лебедев — правая, перебитая на войне, висела у него вдоль бедра усохшей плетью, — а там помутился белый свет, будто враз ослепла она и рассудка лишилась…