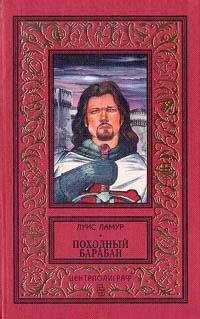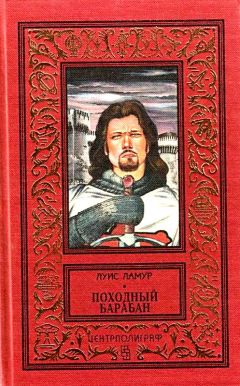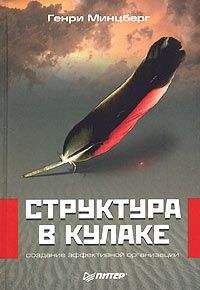На рынке были выставлены самаркандские ковры, некоторые с узором из листьев гранатового дерева — хеттским символом вечной жизни и плодородия. На других основным мотивом узора была сосновая шишка — китайский символ долголетия; нередко встречался и кипарис, который сажают на мусульманских кладбищах. В древности считалось, что кипарисовые ветви, оставленные на могилах, продолжают оплакивать умерших. Кипарис издавна считался священным в Персии; его почитали огнепоклонники, от которых Персия и получила свое имя, ибо высокий, стройный силуэт кипариса символизировал пламя.
В Кордове я видел множество восточных ковров сказочной красоты и высочайшего качества. Просто не верилось, что руки человеческие могут уместить на каждом квадратном дюйме несколько сотен узелков. Коврик, который я в конце концов выбрал для себя, содержал пятьсот сорок узелков на квадратный дюйм; однако это было ничто по сравнению с такими чудесами, как дворцовый ковер, вытканный для приемного зала в Ктесифонте и изображающий сад. Некоторые из них имели по две с половиной тысячи узелков на квадратном дюйме — просто неимоверное число.
Изображение сада довольно обычно для персидских ковров; слово «парадиз», обозначающее во многих языках рай, — персидское и означает «сад, обнесенный стенами».
Хатиб нашел меня на базаре, уже обеспокоенный моим отсутствием, и напомнил о встрече с эмиром. С коврами получилось точно так же, как и с гончарными изделиями, и с книгами. Я был очарован идеями и символами, выраженными в узорах и фактуре вещей.
Через час после ухода с базара я явился во дворец эмира Масуд-хана. На возвышении в дальнем конце приемного зала был накрыт низкий стол, уставленный всевозможными фруктами и яствами. Едва я вошел в зал, как появился сам Масуд-хан, и мои ожидания рассыпались в прах.
Вместо дородного эмира, которого я рисовал в своем воображении, толстощекого, толстозадого и толстобрюхого, передо мной предстал худощавый человек с ястребиным лицом и холодно смерил меня проницательными черными глазами.
Это был не праздный чиновник, жиреющий на деяниях других людей, а воин, жилистый и суровый. От него словно распространялся запах крови и седла, и я понял, что должен вести себя с величайшей осторожностью.
— Для меня большая честь встретиться с ученым, обладающим столь великим знанием, — вкрадчиво проговорил он, а затем резко спросил:
— Ты действительно врач?
— Действительно, — ответил я.
А затем добавил:
— А ты действительно эмир?
Он улыбнулся с неподдельным юмором, хотя юмором волчьим, в котором была немалая доля язвительности:
— Неплохо сказано!
Сел к столу и подал мне яблоко.
— Думаю, мы подружимся.
— Ученый — всегда друг эмиру, — ответил я, — иначе он не настолько мудр, чтобы заслуживать имя ученого!
— Ты должен простить мне мое невежество, — произнес Масуд-хан, — однако я считал, что знаю имена всех наиболее знаменитых ученых. Какая жалость, я столь мало знаю о том, что совершил ты!
Подозревает ли он меня? Да, подозревает, и потому опасен, ибо такой человек будет действовать в соответствии со своим убеждением. Не исмаилит ли он? Может быть, он союзник и друг Синана?
— Как мог ты знать обо мне? Обо мне, который всего лишь наименьший среди слуг Аллаха? Мой родной город — Кордова, а в Кордове, чтобы приобрести известность, нужно быть действительно великим ученым. Однако я поддерживал там знакомство с Аверроэсом, и Иоанн Севильский был мне другом.
— Чем ты занимался там? Ты был наставником?
— Я переводил книги с греческого и с латинского языков на арабский, а иногда и с персидского тоже.
— А что думаешь делать дальше? — Масуд снова смерил меня взглядом суровых черных глаз.
— Учиться в Джунди-Шапур, — сказал я. — Я слышал, что это самая великая из медицинских школ мира. Правда ли, что там преподают на санскрите?
— Сейчас уже нет, но когда-то так и было. Более тысячи лет это была величайшая из школ, хотя с каждым годом становилось все труднее содержать школу и лечебницу, потому что наставников переманивал Багдад.
— Есть одно, что ты мог бы сделать для меня, о эмир. Когда-то давно до меня дошла весть о книге в несколько тысяч страниц, именуемой «Айеннамаг». Можно ли найти её здесь?
— О, ты поистине ученый! Сколь немногие даже знают о существовании этой книги! — он с сожалением покачал головой. — Увы, это невозможно. Я никогда не видел даже копии, и если её можно было бы отыскать, то я голову свою отдал бы, лишь бы она не ускользнула из наших рук.
Однако у него ещё остались подозрения, и я искусно постарался свести беседу — через медицину, право и поэзию — к военному искусству.
Он никогда не слышал о Сунь Цзу и был буквально заворожен его теориями, а от них мы перешли к разговору о Вегеции и римских легионах.
— Ты знаешь, они побывали у нас здесь, и наши парфяне разбили их. Один легион был захвачен в плен, продан в рабство в Китай и добрался туда пешим маршем целый и невредимый.
Я искусно перевел разговор на библиотеки и алхимию, зная, что в крепости Аламут собрана большая библиотека, а сам Синан интересуется алхимией.
Вдруг, без всякой связи, он произнес:
— Здесь есть один человек из твоей страны. Тебе нужно с ним встретиться.
— Как его зовут?
— Ибн Харам.
Если бы он внезапно перегнулся через стол и ударил меня, и то я не испугался бы сильнее. Но, надеюсь, на моем лице это не отразилось.
— А, вот кто. Хорошо иметь такого человека среди друзей, а как враг он очень опасен. Я знаю о нем… Он долго плел нити заговоров, пытаясь захватить власть в Кордове, даже против Йусуфа, своего благодетеля.
Да, именно с этим человеком я не должен встречаться, ибо нет у меня большего врага, и он использует все свое могущество и влияние, чтобы снять с меня голову. Однако то, что я сказал, явно заставило Масуд-хана задуматься, потому что он надолго замолчал.
— Йусуф, говоришь ты, был его благодетелем?
Не знаю, во что мне это обойдется, но попробовать надо.
— Как ученый ученому скажу, — я говорил тихо, как бы стараясь, чтоб нас не подслушали, — не доверяй ему. Это человек, жаждущий власти, он не удовлетворится ничем меньше, чем полная власть.
— А Йусуф… он был твоим другом?
— Он обо мне ничего не знал, а я знал о нем лишь немногое, однако к концу моего пребывания в Кордове я познакомился с его сыном, Абу-Йусуф Якубом. Мы стали друзьями, очень хорошими друзьями, как я считаю. Мы встретились в доме прекрасной Валабы.
— О, Валаба! О ней я много слышал. Я полагаю, она очень красива?
— Очень! — произнес я с сожалением. — Действительно, очень красива.