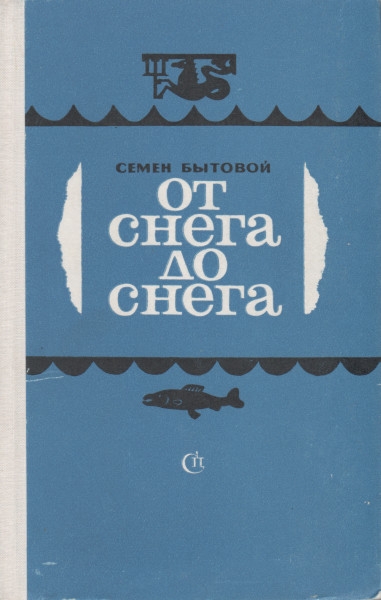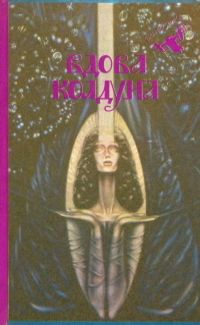бородатыми мужиками и дородными бабами в пестрых широких юбках, не понимая, что они нашли в нем диковинного. Но эти чужие люди ни разу не обидели его, а некоторые даже приносили ему кое-что из харчей, хотя японец не съедал и половины того, что ему готовила три раза в день старушка Аграфена, приставленная за ним ухаживать.
Кое-каким русским словам японец научился еще в пути, а в Якутске он усвоил много других слов, так что к зиме он уже мог понемногу изъясняться на ломаном русском языке, и это значительно облегчило ему жизнь на чужбине.
Понимая, что слишком далеко заехал, Денбей выкинул из головы мысль о возвращении на родину, где остались жена и двое детей. Когда он думал о горькой участи своих товарищей, утонувших в океане и умерших на далеком острове от голода, то благодарил судьбу, что она даровала ему жизнь, а живому человеку всегда есть на что надеяться.
Когда однажды воевода пришел к нему и сообщил, что сам государь-император приказал доставить его, иноземца, в русскую столицу, Денбей не поверил и весь день просидел в своем закуте молчаливый, мрачный, не прикоснувшись к еде. Он даже к ночи прикинулся больным, но тотчас же явился лекарь, пустил ему кровь и напоил каким-то горьким настоем из лесных трав.
Так продолжалось четыре дня. В конце концов Денбею надоело терпеть боль от кровопускания и пить ужасную сивуху, и он, к радости воеводы, заявил, что совершенно здоров.
Назавтра, чуть свет, когда над рекой еще плыл морозный туман, Денбея разбудил казачий пятидесятник Иван Софронеев — высокий, косая сажень в плечах, мужик с рыжей окладистой бородой — и велел собираться в дорогу. Софронеев принес японцу меховые унты, заячью шапку-ушанку, козью доху мехом наружу.
— Вставай, милый, неча шкуру мять, — сказал Иван и весело прибавил: — Кто рано встает, тому бог дает!
Пока Денбей одевался, Софронеев сходил в приказную избу, справил подорожную, получил «для иноземца на одежу два кумача да девятнадцать аршин без чети крашенины, да на корм в пути и на обуви два рубли шестнадцать алтын и четыре деньги».
Санаяк оленей был куплен накануне.
18 февраля 1701 года, в тихий морозный полдень, тронулись в дальний путь, который Иван Софронеев уже дважды за свою жизнь проделал и поэтому удостоился чести везти японца в Москву.
Олени бежали быстро, натянув постромки, откинув к спине ветвистые рога и оставляя за собой вихри снежной пыли.
Иван через плечо поглядывал на японца, плотно закутанного в доху, одобрительно кивал ему, но в глазах Денбея не было даже искорки радости. Непривычный к русским морозам, он пугливо озирался по сторонам, и повсюду, от края до края, лежали высокие белые снега́.
В редкие дни путникам попадались деревеньки, больше всего приходилось ехать полями и тайгой, отдыхать и спать у костров, которые, не скупясь, разводил на привалах Иван Софронеев.
Получив от воеводы строжайший наказ «беречь иноземца пуще ока своего», Софронеев больше всего боялся, что Денбей простудится, и неделями не выпускал его из меховой шубы. Никакие просьбы японца, у которого от долгого сидения на нарте затекли ноги, разрешить ему, как это делал русский, немного пробежать за упряжкой и поразмяться не помогали.
— Приедем в село, в избе походишь, — строгим голосом говорил Иван, хотя от села до села в иное время проходила неделя, а то и более.
Несколько раз в пути их настигала пурга. А однажды такая свирепая, что пришлось всю ночь отсиживаться в тайге. Снежный вихрь закидал и погасил костер. Олени отбились и разбрелись по лесу, и, пока Иван в темноте собирал их, Денбей лежал, привязанный ремнями к сосне, чтобы и его, не дай господь, не унесло...
Когда на рассвете пурга немного утихла, оказалось, что пропал вожак, самый высокий, сильный олень, по которому равнялась вся упряжка. Иван отправился на поиски. Два часа бродил он, увязая в сугробах, и, не отыскав даже следа, понял, что вожака задрали волки.
Не прошла пурга даром и для Денбея. Пока он лежал на снегу без движения, продрог до костей, стал чихать, кашлять и вскоре совсем занемог — везти его дальше было рискованно.
К счастью, скоро случилась деревенька. Иван принес Денбея в избу, положил его на теплую печь, раздел донага, растер его щуплое тело снегом. От этого больному не стало лучше. К ночи у него поднялся жар. Денбей забывался, бредил на своем языке, и от этого непонятного крика Ивану становилось жутко.
Все «бабьи» средства, какие только советовали селяне, перепробовал Софронеев, чтобы облегчить страдания больного, но все было напрасно.
Мысль о том, что японец умрет, приводила Ивана в отчаяние, и он решил, если это, не дай боже, случится, то наложит руки и на себя, потому что ни в Москву, ни обратно в Якутск без Денбея ему явиться нельзя.
По ночам, когда все в избе спали, Иван становился на колени перед иконой, шептал молитву, истово крестился, просил всевышнего даровать иноверцу жизнь...
К великой радости Софронеева, Денбей вскоре стал поправляться, но так исхудал, так осунулся, что лицо его, и без того желтое, стало еще желтее, а узкие глаза и вовсе запали.
— Ничего, на костях мясо-то вырастет, — говорила хозяйка, ставя перед японцем крынку парного молока и отрезая от пшеничной буханки ломоть побольше. — Кушай, Демьянушко, подкрепися...
И здесь, в этой глухой сибирской деревеньке, пока японец набирался сил, селяне то и дело приходили взглянуть на него, переброситься словом, но теперь Денбей уже мог рассказать им о себе, о своей удивительной стране, раскинутой на островах, где почти никогда не бывает зимы.
Весна в том году пришла неожиданно рано. В несколько дней с полей согнало весь снег, вздулись реки, и, за одну ночь освободившись от льда, они так далеко вышли из берегов, что и думать нечего было о том, чтобы пуститься в дальнейший путь.
Почти месяц прожили Софронеев и Денбей в деревне, и только в начале июня, когда немного спала вода, купив лодку и наняв гребцов, отправились вниз по широкой, быстрой реке.
Нескончаемой, почти вечной казалась японцу дорога до русской столицы. С тех пор как выехали из Якутска, сменились три времени года, а конца пути все еще не было. Жаркое лето, правда, пришлось Денбею по душе, и,