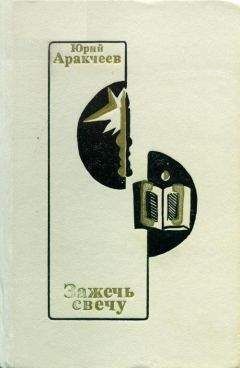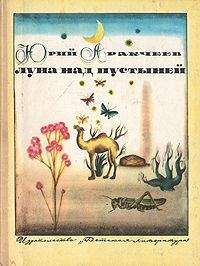Чтобы хоть как-то поднять настроение, развеять внезапную тоску, я заговорил о чем-то постороннем, тут же заговорила и Люба — опять настойчиво рассказывала о своей работе в больнице. В другое время мы с интересом слушали бы ее, — то, что она рассказывала, было действительно интересно, — но сейчас не существовало реальности, все вокруг было из сказки, из детского сна. Словно оказались мы в пещере Аладдина, и пусть за се стенами остался весь сумасшедший ритм XX века — сейчас не хотелось думать о нем. А Люба говорила и говорила.
Только перед самой калиткой, «дверью в стене», Люба вдруг умолкла, пробормотала, что очень устала сегодня и жутко хочет спать.
Но было уже поздно. Посияв вдалеке, волшебная лампа погасла.
Почему же, почему перед Любой я был так беззащитен? От нашего первого разговора с Валей, от хрупкого кружева не осталось и следа. Непонятно на что еще надеясь, я заговорил вдруг о карте своего маршрута, обещая показать ее Вале прямо сейчас же, при свете луны, она с удовольствием согласилась, и, кажется, еще можно было что-то спасти. Но тут же в дверном проеме веранды появилась и Люба.
Я долго не мог уснуть, ворочался среди голубых простыней, зачем-то ждал, что Валя пройдет мимо двери веранды… Может быть, она опять вспыхнет, эта робкая лампа?.. Во сне тоже мучило что-то, и даже утреннее пронзительно яркое солнце, внезапно хлынувшее в глаза, не затмило вчерашние отблески.
Привычно и приятно было думать о том, что путешествие продолжается, но и грустно уезжать. Грустно покидать этот сад, грустно вспоминать.
Валю я лишь мельком видел утром: сосредоточенная, в платочке, повязанном до самых глаз, она прошла мимо, едва кивнув на прощанье, и не знаю, чего больше было в этой поспешности — неловкости от своей рабочей одежды, упрека за что-то вчерашнее или обиды на то, что я не принял всерьез ее просьбу.
Я медлил со сборами, все что-то перевязывал, спрашивал что-то ненужное у Марии Ивановны, потом вдруг вздумал писать письмо приятелю в Магадан…
Мелькнуло мне что-то тревожное, чаемое — несбыточное! — а вот уже и опять предстоит кочевье.
Но стоило сесть на велосипед, оставив позади сад за зеленой дверью, как грусть тотчас развеялась — ее развеял прохладный ветер, ринувшийся навстречу, пахнувший свежестью перемен. До чего же здорово это — чувство дороги, когда ты знаешь, что каждый день, каждый час ждет тебя новое что-то, а то, что происходит сейчас — хорошее ли, плохое ли, — пройдет и, только если ты хочешь, останется с тобой навсегда — в воспоминаниях.
Еще стоя вечером рядом с Валей в парке у перил, глядя вниз на черный плывущий плот, в призрачную лунную даль, которая звала, я опять чувствовал себя немножко другим, чем раньше, познавшим откровение, прикоснувшимся к истине, которой не понимал до сих пор.
И теперь, выехав из чудесного сада, за «дверью в стене», покинув трогательно-наивную Валю, очутившись на мерзкой дороге, я почувствовал себя счастливым.
А дорога и правда была мерзкой. Вот сейчас, припоминая, я не могу себе представить более плохую дорогу. Разумеется, непролазная грязь хуже, но будьте уверены, если бы не безотказное солнце, словно решившее сопровождать меня до самого конца, если бы пошел хоть небольшой дождь, грязь не заставила бы себя ждать, она поглотила бы меня надолго, потому что все условия для нее были, так сказать, в наличии. Эта серая мелкая мука, покрывавшая толстым слоем выбоины, камни и сучья, была не что иное, как высохшая и размолотая колесами отвратительного сорта глина. Даже пески Дудоровского казались лучше, по крайней мере — благороднее, они хоть не скрывали под своим покровом ничего. А здесь стоило лишь увеличить скорость, обманувшись гладкой на вид поверхностью, как тут же ожидал меня резкий толчок, и перегруженный багажник жалобно скрежетал. Эта дорога была словно живое существо, подленькое и мелочное: льстиво зовя вперед, она тут же давала подножку. А вскоре после выезда из Трубчевска на одном из крутых горных спусков я потерял фляжку и, хоть вернулся и дважды медленно прошел пешком весь путь с горы и в гору, так и не нашел ее. Пришлось от деревни до деревни оставаться без питья в этой пыли и жаре…
И все же было великолепно. Я побеждал это длинное ехидное существо, сжав зубы, на которых противно хрустело, вцепившись в руль, осторожно нажимая на педали, словно пришпоривая коня, внимательно глядя вперед, по возможности стараясь не обращать внимания на пот, который вместе с пылью разъедал глаза, я ловко маневрировал, стараясь разгадать коварство противника, и приближался, приближался к Витемле, несмотря ни на что!
Шшш-шшш-шшш… — поворачиваются педали, — трах-тах-тах! — одно из колес попадает в колдобину, присыпанную пылью, — скрип-скрип, — скрипит несчастный багажник, — тьфу ты, господи! — сплевываю я липкую коричневую слюну, — жжжжж… — жужжит тормоз. И опять: шшш-шшш-шшш… Трах-тах-тах! Скрип… Но вот сзади: уууууу… кх-кх… уууу… Машина. Что делать? Деваться некуда, остается одно: приготовиться. Разгоряченный, опаляя меня натруженным своим дыханием, грузовик прогромыхивает мимо, и накрывает меня белое облако, и ничегошеньки-то не видно, и вдохнуть-то нельзя, и в глаза и в уши летит, а вдохнешь — в горле першит, и на зубах-то: хруп, хруп…
А солнце жарит немилосердно, а пить-то нечего — вместо фляжки пустое место. И напекло мне голову, и чудится уже в облаке белом фигура всадника. Сидит всадник в седле — конь большой да мохнатый, серый, как на картине Васнецова, а всадник в шлеме, да в кольчуге в такую жару, да в сапогах мягких, да с копьем в руке. И смотрит витязь на меня с удивлением, и говорит он мне голосом ласковым: «А и куда же ты, добрый молодец, на своей на железной штуке путь держишь? Каким таким ветром занесло тебя в наши края вольные, да и где же спутники твои верные, и почто ж оставил ты родимую свою сторонушку?..» И отвечаю я витязю: «Ой ты гой еси, витязь храбрый! А еду я по свету белому посмотреть, как люди живут, уму-разуму понабраться, а держу я путь в Новгород-Северский древний, да в Чернигов, да в стольный Киев-град. Только вот дороги, витязь, у нас никудышные, и грустно мне оттого. Почему же мы их себе никак не вымостим, не знаешь ли ты?» Усмехнулся витязь в бороду, пришпорил он своего седого коня и скрылся в туманном облаке…
И опять: шшш-шшш-шшш… трах-тах… шшш…
Витемля, Витемля… Звучало это слово в голове моей как заклятие. Четыре часа в муках добирался я до этого поселка, какие-то несчастные сорок километров, как Колумб вглядываясь вперед, мечтая о Витемле — земле обетованной, где начнется наконец «шоссе межреспубликанского значения», если верить карте. Земля обетованная встретила меня уже знакомой табличкой: «Ящур. Остановка транспорта воспрещена».