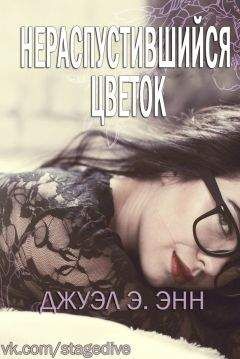Разморенные чаем, долго не спали в эту ночь в стойбище Омрыквута. Сизый табачный дым висел над головами, медленно тянулся к небольшим отдушинам. Стойбище пило чай и курило.
Амвросий проснулся далеко за полдень. Осмотрелся, помолился. Омрыквут курил трубку. Над жирником шумел большой медный чайник. В тундре бушевала пурга.
В пологе окон нет. Круглые сутки горят жирники, они дают и свет и тепло. Амвросий выполз из спального помещения и убедился, что уже наступил день. Вспомнились ночи, проведенные в тундре. «Как же пастухи?»— подумал он, начиная снова проявлять интерес к жизни. И тут же, сидя в холодной части яранги, он решил, что не выйдет из жилья, не двинется в путь, пока не будет уверен в том, что пурга те сможет снова застигнуть его в дороге.
— Довольно! — вслух пробормотал он и полез обратно в полог.
Больше двух недель не утихал ветер. Пастухи сутками караулили стадо, оберегая его от волков.
Когда же, наконец, пурга утихла, Амвросий увидел солнце. Оно уже высоко поднималось над горизонтом. Зализанный ветром, ослепительно блестел снег, раздражая зрение. Было начало апреля.
За это время миссионер освоился в яранге оленевода, стал лучше понимать чукотский язык, свыкся с обстановкой.
Правда, его тянуло домой. Однако Омрыквут говорил, что Колыма далеко, а весна близко: скоро вскроются реки. Амвросий уговаривал, просил, обещал богатые дары, но оленевод оставался непреклонным.
— Карэм![6] — отрезал он в конце концов. И добавил в утешение: — Пусть ты будешь кочевать с нами. Придет время коротких дней, станут реки, тогда поедем.
Амвросий не унимался.
— Многословный ты! — раздраженно бросил хо зяин. — Думал я — ты умный человек, а между тем — ты глупый.
Миссионеру пришлось остаться в ожидании следующей зимы у кочевника: почти все собаки Амвросия разбежались или передохли.
* * *
Велика Чукотка! Много оленьих стад пасется на ней, немало разбросано стойбищ по тундре и поселений вдоль рек и морских берегов. И все же неделями можно бродить здесь, не встретив ни одного человека.
С незапамятных времен уэномцы не меняли места своего стойбища, хотя не раз они терпели здесь бедствия. Впрочем, это была участь всего побережья. Периодически, через каждые несколько лет, с севера пригоняло тяжелые льды, которые на всю зиму загромождали пролив, отнимая у людей море.
Эта зима оказалась именно такой. Льды припаялись к берегам, закупорили пролив, скрыли под собой чистую воду. За много миль приходилось охотникам пробираться по торосам до редких разводий.
Ослабевшие уэномцы почти не показывались из яранг.
Кочак не шаманил, хотя чукчи и просили его. «Духи гневаются», — неизменно отвечал он. Задабривать духов было нечем.
Джонсон отлеживался с дочерью Кочака в своей яранге. Ройс и Устюгов отгородились от них брезентом. Чукчи в ярангу к ним не приходили: торговать нечем, а без платы, в долг, купец ничего не давал. Просить чукчи не привыкли, им легче умереть, чем унизиться.
Голод прежде всего губил животных. Они дохли. Их тушками кормили оставшихся собак.
Во многих ярангах уже потеряли счет, какой день они вываривали ремни и шкуры, грызли, рвали их зубами.
Полуголодный — у матери не хватало молока — внук Эттоя хныкал. Молчала Тауруквуна. С влажными глазами сидела мать Тымкара, седая, высохшая. Унпенер крепился, он все прислушивался к непогоде, готовый в любую минуту идти на промысел. Только он мог спасти семью от голодной смерти.
Глубокое раздумье охватывало старого Эттоя. Какую пользу приносит он своей жизнью? Только съедает лишний кусок, так нужный внуку, Тауруквуне, Унпенеру. Еще осенью хотел он отправиться «помогающим» с чернобородым. Какая беда, если б даже он там умер! Видно, все равно пришло время кончать жизнь.
«Исполню закон предков. Так поступают все сильные духом старики», — думал он. Разве не умер его отец добровольной смертью? Разве не выполнил тогда Эттой волю отца?
Снаружи, у входа в полог, грызлись последние три собаки. Потревоженный ими, Эттой поднял голову.
— Эй, сын! Уйми собак! — неожиданно потребовал он.
Унпенер высунулся из полога и послушно выполнил приказание. Собаки смолкли.
— Пусть замолчат все! — Эттой покосился на внука и невестку, которая пыталась успокоить плачущего ребенка.
Яранга стихла. Как бы прислушиваясь к порывам ветра, старик повернул голову. Глаза его были неподвижны, хмуро сомкнулись клочки седых бровей. Перед ним, как в тумане, вставал образ сына Тымкара… Но нет Тымкара, далеко Тымкар. Здесь только Унпенер.
— Послушай, сынок, что хочет сказать тебе твой отец.
Насторожились женщины. Унпенер сел напротив отца.
Не спеша Эттой срезал ножом стружку от старой, пропитанной табаком трубки, размельчил ее, положил в другую трубку и закурил.
— Долго жил я, сынок. Долго жил на свете. Сколько зим миновало — не знаю.
Хоть и не полагалось, заплакала жена старика. Потупилась невестка.
— Гаснут глаза мои, сын. Перестала согревать тело кровь.
Уже в голос зарыдала старуха, увлажнились глаза Тауруквуны, и внук снова захныкал, утирая слезы грязными кулачками.
— Вы, слабые женщины! Смолкните! — резко бросил старик. Разжег потухшую было трубку, затянулся, закашлялся.
Опять стало тихо. За промерзшей шкурой полога зевнула собака.
— Гаснут глаза, сынок. Не видят родной тундры. Перестал слышать я шорохи моря. — Эттой помолчал, глубоко вздохнул. — Зачем буду жить? — он вопрошающе оглядел свою семью.
Никто не проронил ни слова.
— Зачем буду жить? — со вздохом повторил Эттой традиционный вопрос. — Тяжело вам со мной, стариком. С запавшими глазами, с приоткрывшимся беззубым ртом, сидел он на вытертой оленьей шкуре. В глубине морщин чернела копоть очага.
— Вставай, сын! Зови народ. Пусть придут к старому в гости…
Молча поднялся Унпенер и выполз из полога.
* * *
Стояла ночь. Пурга стихала, с неба глядели холодные звезды.
Уже давно в пологе Эттоя сидели старики. Вспоминали сильных людей, молодость, прожитую жизнь. Как она все же была хороша!
Во взоре Эттоя играли огоньки молодого задора. Подтянулся он, весь уйдя в прошлое, даже о голоде позабыл.
— Да, да, конечно! — восторженно соглашался он, когда другие заводили речь о былом. — Это верно, так было…
Вряд ли догадался бы посторонний, присутствуя здесь, о предстоящем.
Старики говорили возбужденно. Отрадно им, что не перевелись еще сильные люди: чтут и выполняют закон предков.
Тесно было этой ночью в пологе Эттоя. Поджав ноги, вплотную сидели гости. Старуха разливала чай. Кто-то принес жир, другой угощал табаком, третий положил кусочек мяса. У остальных не было ничего, кроме согревающих сердце слов.