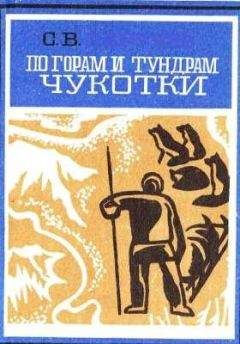Решаем ночевать в последней пустой зимней юрте. Разжигаем огонь в камельке, находим медный сломанный чайник и устраиваем его над очагом. Только мы с наслаждением начали сушиться перед огнем, как приходит молодой якут. Я объясняю ему, что мы приехали осмотреть ущелье, ночуем в его юрте, и как гостинец – «кэси» отдаю ему лодку. Он улыбаясь объясняет нам, что в юрте ночевать нельзя – много блох, «былахы», и показывает, как они скачут. Действительно, по земляному полу со всех сторон скачут блохи, взбираются по сапогам, по одежде в таком количестве, что становится страшно. После выезда якутов в летнюю юрту блохи развелись на земляном полу из отложенных в пыли яиц и теперь в первый раз в жизни хотят позавтракать свежей кровью.
Опрометью мы выскакиваем из юрты и раскладываем костер во дворе. После нашего сегодняшнего двукратного купания августовский вечер на 65-й параллели кажется прохладным, и нам приятно понежиться у костра. Солнце зашло, и на севере зубчатый гребень гранитной цепи чернеет на светлом небе.
На ночь залезаем в амбарчик и зарываемся в оленьи шкуры, которые обнаружили там. Завтра нам предстоит неприятная прогулка – без дороги по затаеженным горам.
Выходим рано, по мокрой траве. Переход вдоль берега дается тяжело. Всякий, кто ходил по горной тайге, знает, что пройти 25 километров без дороги нелегко. Идете вы по мху – нога вязнет в нем, идете по болоту – тоже вязнет. По самому берегу Индигирки идти нельзя: часто выступают утесы, и нам приходится несколько раз переваливать из одной долины в другую и снова взбираться по крутому склону. До склада муки добираемся только к вечеру.
Яков, к счастью, догадался ждать нас позже назначенного мною срока.
Темнеет, но надо ехать обратно. До темноты минуем несколько юрт у нижнего расширения Тюбеляха; в них оживление: женщины и девушки доят коров.
Дорога от юрт поднимается сразу на древнюю террасу. Темно, глубоко внизу блестят плесы Индигирки, а за ними чернеют гряды гор, кажущиеся ночью еще более высокими.
Ночи уже темные, и сегодня хорошо вызвездило. Приятная прохлада. Завернувшись в бурки, которые привез Яков, мы наслаждаемся отдыхом после утомительного дня. Около часу ночи приезжаем в лагерь. Похлебка из консервов служит нам лучшей наградой.
Где же наконец Чыбагалах?
Еще два дня мы проводим в Тюбеляхе: надо починить «бото» и Мичика не готов. Опять на траве наворочены целые стога сена, и Афанасий пришивает новое сено к изношенным покрышкам «бото». У нас не хватает шпагата, чтобы сшивать «бото», и приходится изобретать, чем бы его заменить. Обстригаем хвосты и гривы у лошадей и даем якутам сучить нитки. Чтобы заменить порвавшиеся ремни и веревки для увязки вьюков и для поводов, разрезаем черную коровью шкуру, в которую было завернуто масло, привезенное Мичикой.
Я стараюсь уменьшить число вьюков, чтобы увезти с собой побольше муки. Брезентовая лодка нам больше не будет нужна, и мы разрезаем ее на потники, на мешки, на ремни. Весь лагерь занят хозяйственными делами.
Петр сидит у костра и что-то чинит: он не может принять участия в общей работе из-за больной ноги. Я предлагаю ему остаться в Тюбеляхе, с тем что на обратном пути мы пришлем за ним, но он ни за что не хочет: «Я здесь умру от тоски».
16 августа на жирном белом коне приезжает Мичика. Якуты отличают семь степеней жирности коней; высшая степень – когда на спине слой жира в два пальца. Конь Мичики относится к этой высшей степени жирности. Якуты пускают лошадей на долгие сроки в луга, чтобы потом на такой жирной лошади сделать короткий и быстрый переезд с тяжелым вьюком, доведя животное почти до истощения к концу четырех-пяти недель. Дольше лошадь не выдерживает, сбиваются копыта. Чтобы такая жирная лошадь не опилась и не задохлась, ее перед поездкой выдерживают дня два-три без корма. Мичика первые три дня держит своего коня на привязи – «кормит у столба», как говорят наши русские рабочие, – и отпускает лишь под утро на два часа пощипать травы.
Такой способ особенно пригоден для переездов по районам со скудным кормом и для зимних перегонов.
Якуты очень удивлены, что наши кони идут уже два месяца, – при их системе за это время кони давно бы погибли. Особенно поражают их подковы: на Индигирке кованых коней видят в первый раз. Но я удовлетворен: только благодаря подковам мы прошли так далеко; даже якутские рабочие – непримиримые противники подков – теперь сами подтягивают ослабевшие гвозди. Каждый рабочий начинает дрожать за своего коня, так как запас подков уже кончился.
Мы уходим вверх по долине Иньяли прямо на запад. Дно долины занято то галечниками, то обширными тарынами, то лесами или лугами с обильной голубикой.
С первого же дня выясняется, что лошади далеко не те, что прежде. Карька и Пегашка падают на всех бадаранах, и их приходится развьючивать и поднимать.
Каждый день я отмечаю в журнале: «Лошадь № 1 сильно захромала и с трудом дошла до стоянки», «Лошадь № 5 сильно захромала и освобождена от груза». Что-то будет! Подков нет и «заводных» (запасных) лошадей – также.
18 августа. Долина Иньяли разделяется на две, с юга подходит большой приток Силяп. За ним, южнее, тянется громадная гранитная Силяпская цепь со снегом. Между Силяпом и Иньяли, на стрелке, – огромная изолированная вершина под сплошной шапкой снега. Это группа Чен – самая высокая гора в этой части хребта. Длинные языки снега спускаются с нее в узкие ущелья, загроможденные моренами. Мичика рассказывает, что раз он в погоне за горными баранами поднимался на Чен, шел туда целые сутки, дошел до снега, видел в ущельях ледники – поэтому гора и названа Чен («чен» – лед в углах юрты, скапливающийся зимой под нарами).
20 августа из узкой долины нижнего течения Иньяли мы переходим в громадное расширение ее верховьев. Всю эту котловину наполняли когда-то ледники: одни спускались с Чена, другие – с северных и западных гор и сливались в узкой долине Иньяли.
Два следующих дня мы идем на восток по моренам северного края долины, все время в виду Чена – от него никак не уйдешь. Бесконечные холмы морен занимают все подножие горного склона и поднимаются до высоты в 400 метров над дном долины; следовательно, толщина ледника была здесь не меньше 400 метров.
Каждый день я отстаю, осматривая утесы, и потом нахожу дорогу по следам. Теперь тропа через Верхоянский хребет кажется мне трактом, так как здешняя тропа не более чем след. На моренах еще хуже – камни, сухой мох, и копыта лошадей не оставляют следа; но я приобрел большой опыт, а кроме того, мой белый конь – настоящий следопыт. Когда мне нужно вести геологические наблюдения и некогда высматривать следы, конь сам находит дорогу, даже на моренах. Почти всегда он безошибочно решает, куда идти, и редко приходится его направлять.