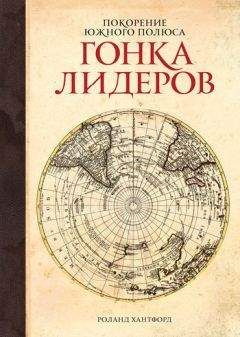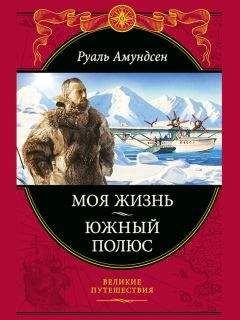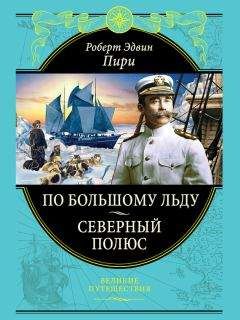5 февраля пришел корабль. «Терра Нова» привез новости, из-за которых Симпсон решил изменить планы и вернуться домой. Он максимально быстро передал дела Райту и приготовился к отплытию. Мирс, тоже готовясь к возвращению, забросил работу. Экспедиция к этому моменту ему настолько опротивела, что он хотел как можно быстрее с нею покончить.
Теперь предполагалось, что Аткинсон возьмет собак и поспешит за Скоттом, чтобы тот успел на корабль. Но Аткинсон чувствовал, что должен присматривать за Эвансом. Оставался единственный возница собачьей упряжки – Дмитрий. С ним должен был поехать либо Черри-Гаррард, либо Райт. Райт был упрямым, уравновешенным человеком и хорошим специалистом в области навигации. Но, по мнению Симпсона, будучи ученым, Райт был более востребован на мысе Эванс, рядом с инструментами. Поэтому он остался, и навстречу Скотту выехал Черри-Гаррард.
Между тем Черри-Гаррард для этой задачи ни в коей мере не годился. Он никогда раньше не управлял собаками. Он был близорук. Он не умел работать с навигационными приборами. Скотт смеялся над ним, когда он пытался освоить этот предмет. «Конечно, есть чуть больше одного шанса из ста, что ему когда-либо понадобится навигация», – написал Скотт о Черри-Гаррарде незадолго до старта – и вот этот шанс представился.
25 февраля Черри-Гаррард с Дмитрием отправились на упряжках к югу. Черри-Гаррард считал этот поход простой ознакомительной экскурсией. Под руководством Дмитрия без труда проходил по двадцать миль в день, несколько смущенный сделанным в последний момент открытием относительно того, что могут собаки. На «Складе одной тонны» они оказались 4 марта. Однако там не было никаких признаков полярной партии. Начался буран, который продолжался четыре дня и запер Черри-Гаррарда в палатке. Опытный возница мог бы продолжать движение, но он был новичком, а Дмитрий не желал ехать в штормовой ветер.
В любом случае запаса собачьей еды, упомянутого Скоттом, на складе не оказалось. Его должен был обеспечить Мирс, но об этом просто забыли в общей суматохе, вызванной постоянно меняющимися планами Скотта и его неясными приказами. Поэтому собаки не могли идти так далеко, как он ожидал, хотя в санях было достаточно еды для того, чтобы они продолжали движение еще день или два, прежде чем повернуть домой. Можно было пройти еще дальше при условии, что придется убивать одних собак для того, чтобы накормить других.
Но приказы Скотта были категоричны: собаками рисковать нельзя. К тому же Аткинсон объяснил им, что возвращение Скотта никоим образом не зависит от собак. Однако опасная черта значительно сместилась на юг. Этого Скотт не объяснил, а Аткинсон не понял. Первоначально предполагалось, что полярная партия сможет дойти до «Склада одной тонны», прежде чем ей потребуются запасы с базы. Но из-за всех предпринятых изменений – особенно из-за того, что Мирс прошел с ними гораздо дальше, чем предполагалось, – ситуация изменилась.
Всего этого, конечно, Черри-Гаррард не знал. Более того, он был несведущ в навигации – и потому не осмелился идти дальше, чтобы не разминуться со Скоттом. К тому же в тот момент по плану Скотт еще не должен был прийти на «Склад одной тонны» – а он сам убедил Черри-Гаррарда, что график нарушать нельзя. Ситуация не казалась критичной. Черри-Гаррард счел оправданным свое пребывание на «Складе одной тонны», где добросовестно– ждал шесть дней. Он повернул назад 10 марта, все еще не подозревая, что полярная партия в опасности.
Когда Черри-Гаррард уехал, Оутс находился почти при смерти. Скотт заставил Уилсона разделить на всех запас таблеток опиума, чтобы каждый мог распорядиться ими, как захочет.
Теперь Оутса поддерживала только надежда дождаться прибытия собачьих упряжек. К 14–15 марта – они уже потеряли счет дням, – когда упряжки так и не появились, он потерял последние силы и больше не мог держаться. Боль в обмороженных ногах, гангрена, голод и холод были слишком тяжелы. Оутс дошел до финальной стадии апатии, которая наступает в таких случаях на сильном морозе. Он попросил, чтобы его оставили в снегу в спальном мешке, но, в конце концов, поддался уговорам пройти еще несколько миль в призрачной надежде, что упряжки вот-вот покажутся на горизонте. После неизбежного разочарования он сдался.
В ту ночь в палатке Оутс обратился к Уилсону, как всегда делал в случае неприятностей. У него не было желания поверять что-то Скотту, к которому он давно не испытывал ни капли уважения. Оутс предельно ясно понял, что был предан бездарным руководителем. Надо было говорить, настаивать – но не молчать. Тогда остался бы шанс избежать этой беды. Тяжело было нести в душе такой груз сожалений.
Оутс уже давно перестал делать записи и сейчас отдал фрагменты своего дневника Уилсону с просьбой передать бумаги его матери. Он признался Уилсону, что это единственная женщина, которую он любил, и теперь горько сожалеет, что не может написать ей в данный момент, перед смертью.
Если верить дневнику Скотта, Оутс «спал всю ночь – имеется в виду, что это уже перестало быть нормальным явлением, – в надежде не проснуться». Что это значит? Он мог бы принять таблетки опиума, чтобы быстро избавиться от несчастий, но не нашел в себе силы перешагнуть через этот моральный барьер. Вероятно, он обратился к Уилсону, и тот сделал ему укол морфия. Похоже, это была не смертельная доза, что подтверждается его словами в письме родителям Оутса – «наша совесть чиста». Но он мог дать Оутсу дозу, достаточную для того, чтобы успокоить его боль, возможно, с тайной мыслью, в которой сам не до конца признавался себе, что в таком состоянии этого будет достаточно для окончательного ухода.
Но легко умереть Оутсу не удалось. Утром он проснулся. Это было, если даты верны, 17 марта, в его тридцать второй день рождения. Стены палатки скрипели, по ткани хлестал ветер. Оутс тихо выбрался из помятого и влажного меха своего спального мешка, переполз по ногам своих спутников, пересек палатку и, добравшись до выхода, висящего, как пустой мешок, начал открывать его. Это был обычный и знакомый ритуал. На него смотрели три пары глаз, кто-то сделал неуверенную попытку остановить его.
Узел ослаб, мешок открылся и превратился в туннель. Как животное, уползающее умирать, Оутс, хромая, выбрался из палатки и скрылся из вида в круговерти метели.
Уилсон написал матери Оутса, что никогда в своей жизни не видел такого мужества, которое проявил ее сын. «Он умер, – сказал Уилсон, – как мужчина и как солдат, ни одного слова жалобы».
По версии Скотта, изложенной в его дневнике, Оутс, выходя из палатки, сказал: «Я только выйду наружу, может быть, ненадолго». Скотт утверждал, будто Оутс
с гордостью думал о том, что его полк должен восхититься тем, как храбро он встречает свою смерть… Мы понимали, что бедный Оутс шел навстречу смерти, но… мы знали, что это был поступок храброго человека и истинного английского джентльмена.
Уилсон был уверен – Оутс страдал так сильно, что, лишившись последней надежды, нашел только один выход из положения. Скотт «цитировал» его героические мысли, оставляя без ответа вопрос, откуда ему стало известно о них. Он по-прежнему продолжал вести дневник в расчете, что его записи будут рано или поздно опубликованы. Письмо Уилсона госпоже Оутс было очень личным, и, если бы Оутс высказывал хоть какие-то героические намерения, Уилсон обязательно упомянул бы об этом и передал бы матери его предположительно последние слова. На надежность независимого свидетельства Уилсона можно положиться.
Но Скотт неутомимо готовил себе алиби. Подчиненный, доведенный до предела страданиями, мог быть в высшей степени опасен, поэтому смерть Оутса надлежало сделать пригодной для книги. В любом случае Скотт, всегда судивший о людях по внешним проявлениям, вполне мог интерпретировать поступок Оутса как правильный жест.
Погода улучшилась, и еще несколько дней Скотт, Уилсон и Боуэрс могли бороться. Когда 21 марта они оказались в одиннадцати милях от «Склада одной тонны», продукты и топливо почти закончились. Они поставили палатку, и тут с юго-запада налетела снежная буря. Правая нога Скотта была обморожена, он едва мог идти. Теперь он сам стал обузой для партии, оказавшись в положении Оутса. Уилсон и Боуэрс были в чуть лучшем состоянии и готовились пойти к складу, чтобы принести продукты и топливо. Что-то их остановило, что именно – неизвестно. Боуэрс был не из тех, кто сдается, пока у него есть хотя бы призрачный шанс.
Даже когда они были в лучшей форме, их останавливал такой же штормовой ветер, потому что они не могли ориентироваться на местности в условиях плохой погоды. Из-за небрежной маркировки склада требовалась хорошая видимость, чтобы его найти. Но буря вряд ли была такой яростной или безжалостной, какой изображал ее Скотт, склонный драматизировать события, даже будучи здоровым. Теперь он страдал от холода, голода, болезни, и потому те или иные ситуации вполне могли казаться ему более тяжелыми, чем на самом деле. Вероятно, сам Скотт удержал Боуэрса и Уилсона на месте.