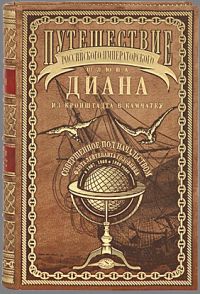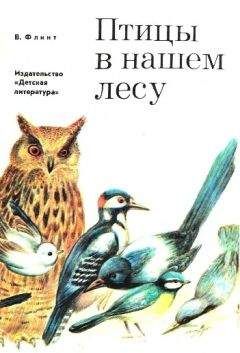Ознакомительная версия.
Всем спасенным дали водки и хлеба.
Они с жадностью выпили по чарке, а при виде хлеба по их закопченным лицам побежали крупные слезы, оставляя грязные потеки на щеках. Плача, они ели хлеб, подбирая своими совершенно почерневшими когтистыми руками каждую кроху, бережно отправляя ее в рот.
Когда первый голод был утолен, они наперебой стали рассказывать о своих несчастиях, умолкая лишь тогда, когда начинал говорить Шипицын. Они уважали его.
А Шипицын, тоже волнуясь и спеша, говорил:
— Что сделали с нами? А? Я прослужил компании двадцать лет! Усерднее меня, кажись, никого и не было. Баба у меня тоже промышленная. Вот извольте посмотреть... — И он вытащил откуда-то из своих меховых недр засаленную и истрепанную до курчавости записную книжку, в которую записывалась вся артельная добыча. — Вот глядите, за год мы с бабой добыли восемьсот морских котов. А остальные — кто двести, кто мало-мало поболе, а кто и двух сотен не добыл.
— А ты расскажи, как тебе было здесь с промысловыми, — посоветовал Шипицыну один из приехавших с ним.
— Эх, что об этом говорить! — воскликнул Шипицын. — Сколь я вытерпел здесь, только один бог знает, да вот они, — указал он на своих товарищей.
— За старшего был он у нас, начальником, — пояснил тот же промысловый.
— Особливо было тяжело с лопотью, — говорил Шипицын. — Лопоть вся износилась, люди оборвались, а тут холода. Шкур много, а брать из промысла на себя никто не посмел, — такой закон. Ну, я разрешил: не ходить же людям голыми по такому холоду. Вот можете сами видеть, в каких мехах мы теперь ходим: не то что в Иркутске, а и в самом Петербурге позавидовали бы. Так и жили мы. Всё ждали. А напоследок порешили, что об нас и думать забыли. В другое время приходило в голову пуститься на волю божию в Камчатку, но без карты не отважились: куда, в какую сторону итти?
На другой день штурман Васильев и кое-кто из корабельщиков посетили заброшенных зимовщиков в их зимовье.
Они жили в двух юртах, сложенных из наплавного леса: в одной, меньшей, помещался Шипицын с семьей, в другой — остальные, холостые промысловые. Жилища эти были наполовину врыты в землю, с земляными полами, с очагом в виде ямы и мало чем отличались от звериных берлог.
Семья Шипицына, которая зимовала с ним вместе, состояла из его жены и двух мальчиков-подростков двенадцати и тринадцати лет.
Все они были одеты в шкурки морского котика, а шапки их были пошиты из меха прекрасных песцов. Лица у всех были одинаково черны, руки не знали мыла, и все трое в своих шкурах и в своей многолетней грязи отличались друг от друга только ростом да быстротой движений.
У мальчуганов были необычайно живые глаза, которые они теперь пялили до самозабвения на людей в столь отличных от их одеждах.
Они даже не слышали предлагаемых им вопросов: рады ли они своему спасению и хотят ли возвратиться домой? А если бы даже и слышали, то не знали, что ответить, ибо иной, лучшей жизни они не ведали и другого дома не помнили.
Но всего удивительней было то, что все промышленные после семи лет своей многотрудной жизни во льдах имели здоровый и бодрый вид и даже не утратили способности веселиться.
Один из них достал из сундука скрипку и сказал гостям:
— Не считайте нас за колюжей, мы тоже среди настоящих людей живали.
Настроив свой инструмент с самодельными струнами из звериных жил, он заиграл какой-то танец, а шипицынские мальчуганы, по знаку отца, пустились в пляс...
— Вот так мы и прогоняли нашу грусть-тоску, — сказал Шипицын.
— А когда же вы на бриг переберетесь? — спросил один из корабельщиков. — Ведь с попутным ветром «Бобр» уходит.
Зимовщики замялись.
— Да, вишь, не едем мы... — как бы извиняясь за себя и товарищей, сказал Шипицын.
— Как так? Почему?
— Да, вишь, Васильев от компании просит нас остаться еще на год, пока приедет смена, и запас нам полный оставляет на год. Мы и согласились.
Узнав об этом впоследствии из рассказа самого Васильева, Головнин с превеликим изумлением думал о русских зимовщиках, поражаясь доверчивости и незлобивости этих людей.
Еще недавно они плакали от счастья при виде людей с воли. А теперь уже снова готовы были довериться тем, кто их однажды бросил на погибель, и упустить, может быть, последний в жизни случай вырваться с этого пустынного острова.
«Сколь же вынослив, — думал Василий Михайлович, — необорим даже для природы Крайнего Севера русский человек, что приходил сюда первый, в это безлюдье, раздвигая на огромные пространства пределы державы Российской!»
И Василий Михайлович записал в свой дневник все, что он слышал об этих удивительных русских Робинзонах.
Глава девятнадцатая
В РУССКИХ ВЛАДЕНИЯХ
«Камчатка» шла вдоль гряды Алеутских берегов.
Ветер был слабый, море спокойно. Было тихо, пустынно и для летней поры холодно. Реомюр редко показывал более 4 градусов тепла. Команда оделась потеплее.
Василий Михайлович осторожно вел «Камчатку» по этим никем не посещавшимся местам. И опять спал в своем кресле лишь днем, да и то урывками. Почти все время он проводил на вахтенной скамье. Море и ветры в этих местах были еще неизвестны мореплавателям. По ночам воздух и холодное, тяжелое море как будто замирали. Только бледные северные звезды скупо перемигивались в светлом, негаснувшем небе.
«Камчатка» подолгу дрейфовала.
Наконец взору мореплавателей открылся лесистый остров Кодьяк. Алеутские острова остались далеко позади. Появились птицы. По ночам к борту «Камчатки» приближались киты.
«Камчатка» держала курс на остров Учан. Этот маленький гористый островок как будто нарочно был поставлен служить приметой для кораблей.
Когда шлюп стал на якорь вблизи острова, от берега отделилась большая лодка, направившаяся к кораблю.
В ней оказалось несколько монахов во главе с сухоньким старичком. Странно было видеть его непрочную, словно детскую фигурку среди огромных, с грубыми, обветренными лицами монахов, похожих более на промысловых людей.
Монахи были посланы на «Камчатку» начальником местной духовной миссии отцом Гермогеном обменять плоды их хозяйства на муку, сахар, чай, ром. Молодые гардемарины и мичманы с удивлением, любопытством и радостью окружили этих русских людей — «американцев». Они говорили по-русски и тоже были рады, молчаливо улыбались и оглядывались.
Василий Михайлович расспрашивал их о хозяйстве.
Старичок отвечал охотно:
— На острову у нас трава хороша, можно взять без большой натуги два покоса, так что коровок у нас боле полтыщи будет. А начали с малого числа этак лет пятнадцать назад. И овечки у нас есть и свинки. На Еловом острову пытались мы сеять пшеницу, только она николи не вызревает, а ячмень годами вызревает. Капусту вот тоже гонит в лист из-за дождей, и кочны завиваться никак не хотят.
Ознакомительная версия.