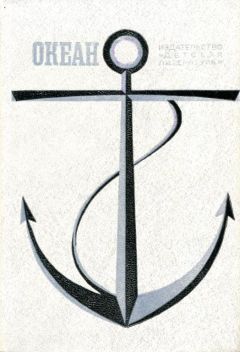— Так точно, понял. Разрешите идти?
— Идите.
Только в каюте, когда Монич подбирал документы на отход, до него дошел смысл сказанного капитаном. Внимательно перечитал помощник Монич предложение Регистра: «Следовать на базу ремонта, без груза, в сопровождении судна». Жирная черта, как граница запрета, отделила последние слова. Понял третий штурман, что стоит ему показать акт портнадзирателю — и отход не состоится. Зазвонят телефоны, забегают диспетчеры. Придется выгружать бумагу и ждать попутного судна. И новый тысяча девятьсот сорок восьмой год придется встречать здесь, а не в шумном Владивостоке. Да и «есть» сказал. Значит, нужно так и делать. А погода стоит хорошая. Три дня — и во Владивостоке. Да и льяла сухие. Вынул акт из папки и переложил его в ящик стола.
Третий штурман Монич шел оформлять отход. Пустынные причалы. Только «Ладога» прижалась бортом, блестит кружка́ми иллюминаторов. Тихо. Начался снегопад, падают белые хлопья в черную воду, покрывают причалы. Такую бы ночь — да на Новый год во Владивостоке!
В портнадзоре дежурил Егорыч. Его ставили на дежурство, когда не было судов. Обычно же он шпаклевал лоцманский бот или шел в скверик рассказывать морякам разные истории. В его рассказах правда причудливым образом переплеталась с вымыслом и вымысла было больше. Егорыч, проживший долгую и интересную жизнь, предпочитал рассказывать небылицы. Почему? Может быть, он считал, что сказка красивее действительности? А может быть, верил, что так было, или хотел в это верить? Его любили слушать. Даже бывалые моряки не перебивали и, наверное, верили. Только потом, когда его истории пересказывали другим, те, другие, ухмылялись и недоверчиво качали головами.
Егорыч сидел у раскаленной печки. Прыгали блики огня на его лице, сморщенном и румяном, как печеное яблоко. Щурился блаженно Егорыч, жевал беззубым ртом кривую трубочку. Не хватало Егорычу слушателей.
Хлопнула дверь, вошел облепленный снегом третий штурман Монич. Обрадовался Егорыч.
— Раздевайся, садись, грейся! А у меня кости ломит. К непогоде, должно. Так же было перед знаменитым тайфуном в тысяча девятьсот пятом году. Плавал я тогда боцманом на…
Оборвал Монич старика:
— Егорыч, оформляй отход. Снимаемся в двадцать два на Владивосток.
Заморгал Егорыч, запыхтел трубочкой, проковылял к столу, пошуршал бумагами, поворчал:
— Штамп куда-то запропастился, растудыт его…
Квадратный большой штамп с ручкой-шариком лежал на углу стола. Монич подошел, взял штамп, подышал на резинку, отпечатал сиреневый оттиск на обороте судовой роли.
— Вот и все. Расписывайся, Егорыч.
Егорыч взял ручку, долго приноравливался негнущимися пальцами с панцирными ногтями и, наконец, вывел фамилию.
— А документы у вас в порядке?
— Конечно. Идем на ремонт во Владивосток. Новый год в «Золотом Роге» справлять будем. — Собрал Монич документы в портфель, щелкнул замком. — Прощай, Егорыч.
Старик сосал погасшую трубку, согнутый, морщинистый. Руки — как клешни у краба. Схватил Монич обеими ладонями узловатые пальцы, потряс. Жаль, времени нет послушать Егорыча.
— А действительно в девятьсот пятом перед тайфуном была такая погода?
Оживился было старик, обрадовался. Очень уж интересная история! Но Монич помахал рукой, вышел.
Снег валил по-прежнему. Кучи угля, причалы, пароход «Ладога» покрылись пеленой, искрились в свете прожекторов. Морозило. Плескалась черная вода, пожирала снег. Монич подходил к «Ладоге». Что-то не по себе стало ему от этого снега, от этой тишины, от воспоминаний Егорыча. Доложил капитану, услышал обычное «добро». И тогда легко, хорошо стало Моничу, как в старом, обжитом доме.
Отдали последний кормовой швартов. Плеснула светом распахнутая дверь дежурки. Старик с седыми космами бежал, переваливаясь, к пароходу. Смешно взмахивал руками, кричал:
— По телефону! Штормовое предупреждение!
Капитан Шалов не услышал старика, не увидел и перешел на другое крыло мостика.
Старпом Зорин и капитан Шалов плавали вместе уже два года. Они, как говорится, «сплавались», хотя были совершенно разными людьми. Капитан Шалов имел старую капитанскую закваску. Он был честен, прям и немного черств, считал, что внеслужебные разговоры разлагают дисциплину. Команда слышала он него только слова команд или распоряжений. В его внутренний мир проникнуть было нельзя. Всегда спокойный и невозмутимый, он был непроницаем для подчиненных.
Старпом Зорин был его противоположностью. Высокий, угловатый и сутулый, он не имел той выправки, что бросалась в глаза у капитана Шалова. Тонкое, нервное лицо, ясные голубые глаза, вьющиеся волосы были бы к месту скорей поэту, чем моряку, штурману. А улыбка, простая и добрая, располагала всех к старпому Зорину. К нему тянулись люди, и каюта старпома никогда не пустовала. И боцман за деньгами в долг, и матрос, потерявший девушку, и штурман, получивший капитанский разнос, — все шли к старпому.
За два года старпом и капитан хорошо поняли друг друга. Капитан знал, что ему не хватает теплоты, а людям она нужна. Старпом знал, что ему не хватает требовательности и той командной струнки, которая так необходима на флоте и которая в избытке водилась у капитана. Старпом и капитан не дружили, как это бывает у моряков, но они были нужны друг другу. «Сплавались», одним словом.
Прошли волнолом. Старпом стоял в рубке и через плечо капитана смотрел, как тот прокладывает курс на маяк Низменный у Приморского берега. Мысы, устья рек, звездочки маяков казались на карте совсем близкими.
— Глеб Борисович, — сказал капитан. — Распорядитесь производить замеры льял правого борта каждые два часа. Если погода изменится, пусть доложат мне. — Капитан сошел с мостика.
Прежде чем вслед за капитаном тоже сойти, старпом подошел к барометру и постучал по стеклу согнутым пальцем. Стрелка дрогнула и прыгнула на два деления вниз. Странно… Стоял штиль, и снег по-прежнему падал крупными хлопьями.
В четыре утра старпом заступил на вахту. Судно раскачивалось, но ветра не было. Снегопад прекратился. Над горизонтом в южной четверти поднялся голубоватый Сириус. Созвездие Ориона повисло над фок-мачтой. На норде и норд-весте звезд не было. Там горизонт закрыли черные тучи. Вахту принимал старпом от второго штурмана.
— Откуда идет зыбь?
— От норд-веста. С двух часов.
— Капитану доложили?
— Доложил.
— Как замеры в правых льялах?
— Льяла сухие.
Старпом подумал, что прогноз оправдывается. За зыбью идет ветер. Зыбь крупная, значит, ветер будет сильный. Посмотрел на барометр: семьсот сорок семь миллиметров. Очень низкое давление.
До восьми утра было спокойно. В восемь на мостик поднялся третий штурман Монич. Его-вахта с восьми.
— Глеб Борисович, мне кажется, что горит какое-то судно. На горизонте зарево.
Но это был не пожар. Это был восход солнца двадцать третьего декабря. Сначала загорелась красная полоска, а потом начало багровым заливать горизонт. Небо пронизали кровавые полосы, медленно выплыло косматое солнце. И начался ветер, ветер от норд-веста.
Сдает вахту Зорин, дописывает последнюю строчку в журнале, предвкушает горячий чай в кают-компании. На мостик поднялся капитан.
Не попал старпом Зорин в кают-компанию. Ему удалось забежать только в каюту… Но это было потом…
Ветер усиливался с каждой минутой, и качка стала сильнее. Низкие черные тучи неслись над мачтами на зюйд-ост.
— Когда делали последний раз замер льял, Глеб Борисович?
— Час назад.
— Замерьте сейчас. Третий помощник пусть замерит силу ветра.
Взял третий штурман Монич анемометр из штурманской, вышел на крыло. Быстро вернулся.
— Двадцать один метр в секунду, — сказал и стал дышать на побелевшие пальцы.
— Девять баллов, — сказал капитан и принялся набивать трубку.
Ветер рвал гребни волн, и белые полосы пены тянулись к горизонту. Стремительно раскачивался отвес на кренометре. На мостик поднялся вахтенный матрос Костя Бронов с футштоком.
— В правых льялах двадцать один сантиметр.
Взгляды капитана и старпома встретились.
— Глеб Борисович, спуститесь и проверьте сами.
С палубы волны казались больше, зато ветер — тише. Гребня волн опрокидывались через фальшборт, стекала вода через шпигаты, оставались на палубе замерзшие ручейки.
Костя протянул футшток.
— Смотрите.
Двадцать четыре насечки на медном пруте заполнены водой. Опять встретились две пары глаз на мостике. Все понятно, можно не докладывать.
— Двадцать четыре сантиметра, Владимир Иванович.
— Цементные ящики не держат.
Скрипит штурвал. Рулевой Коля Михайлов похож на цыгана: курчавый чуб, смуглое лицо. Только зубы да белки глаз сверкают. Мурлыкает Коля песенку. И скрип штурвала, и песенка Коли — мирные, как треск сверчка. И кажется, что все в порядке и что через несколько часов откроется маяк Низменный. А там и до Владивостока двое суток хода. И только.