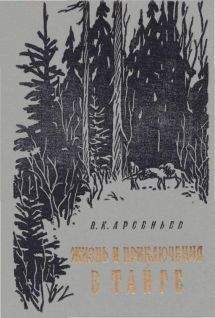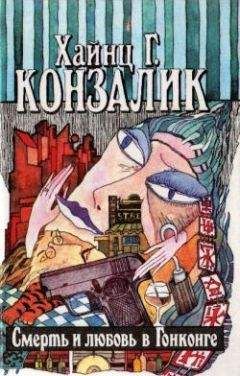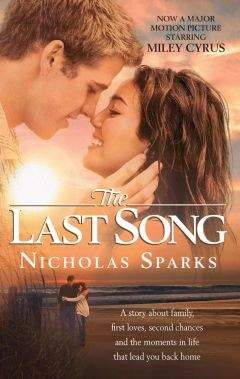Противопоставление, которое делается между Арсеньевым и Пржевальским, является не только глубоко ошибочным, но опасным, ибо внушает ложные представления о характере научного творчества обоих путешественников.
О литературной манере Пржевальского писали и упоминали почти все его биографы и авторы статей о нем, но до сих пор нет специальной работы, посвященной этой теме. Внимание исследователей останавливалось преимущественно на общем типе сочинений Пржевальского и их составе. Сравнительная характеристика сочинений Пржевальского, Певцова и Потанина находится в книге академика В. А. Обручева о Потанине: «Путевые отчеты всех трех пионеров, — пишет автор, — являются настольными книгами современного натуралиста, занимающегося изучением природы и жителей внутренней Азии, не только географа и этнографа, но и геолога, зоолога, ботаника, даже климатолога и археолога». «Но эти путевые отчеты, — указывает далее В. А. Обручев, — неодинаковы: у Потанина и Певцова даны более точные характеристики местности, более детальные данные о виденном и слышанном, у Пржевальского — «более красивые описания природы, более интересное изложение хода путешествия, путевых встреч, охотничьих приключений» [64]. Современный исследователь-географ, редактор новейших переизданий книг Пржевальского Э. М. Мурзаев еще более резко противопоставляет книги Потанина и Пржевальского. По его мнению, «Очерки Северо-Западной Монголии» читать и трудно и «порой скучно». «В деталях, представляющих большой научный интерес, слабо проглядывает романтика путешествия. жизнь экспедиции, ее люди и быт. Здесь нет и обобщающих тематических разделов; это только полевые дневники, очень нужные и полезные, но требующие еще окончательной обработки» [65]. Нам представляется несколько преувеличенной такая характеристика сухости «Очерков Северо-Западной Монголии» Потанина, но основное различие уловлено автором правильно. Книги Пржевальского пленяют сочетанием строгой научной точности с живым и ярким изложением, пленяют и чаруют исключительной свежестью восприятия природы и энтузиастическим отношением к ней, они пленительны, наконец, великолепным русским языком, которым в совершенстве владеет их автор.
Книги, совершившие переворот в географии, принадлежащие, бесспорно, к самым выдающимся памятникам научной географической литературы, являются вместе с тем и увлекательнейшим чтением, доступным любому читателю [66]. Страницы, посвященные обстоятельным и точным описаниям пройденного пути, чередуются с поэтическими описаниями природы, с философскими раздумьями, с лирическими переживаниями, вызванными созерцанием природы и чувством тоски по оставшейся вдали родине; гневные обличения продажной и лживой китайской администрации чередуются с выражением теплого участия и глубокого человеческого сочувствия к судьбе забытых кочевников, и, наконец, повсюду вкраплены страницы полные нежного и мягкого юмора, особенно в тех случаях, когда он говорит о повадках и нравах птиц или зверей. Незабываемы его описания нахальных и вороватых ворон, беспредельно любопытных монгольских пищух (оготоно) или элегантных любезников журавлей. Во всем прославленном сочинении Брэма не найдется ни одной строчки, которую можно было бы поставить рядом с этими выразительными, художественными страницами, пронизанными и согретыми каким-то особенно человеческим отношением к миру животных. Позволю себе привести два примера. Вот описание пищухи: «В характере пищухи сильно преобладает любопытство. Завидя подходящего человека или собаку, этот зверек подпускает к себе шагов на 10 и затем мгновенно скрывается в норе. Но любопытство берет верх над страхом. Через несколько минут из той же самой норы снова показывается головка зверька, и если предмет страха удаляется, то оготоно тотчас же вылезает и снова занимает свое прежнее место» [67].
Другой пример — «пляска журавлей» — описание «забавных плясок», которые затевают журавли «для развлечения и удовольствия своих любимых подруг». Это описание является подлинным шедевром художественно-научной литературы. «Ранним утром и в особенности перед вечером, — рассказывает Пржевальский, — журавли слетаются на условное место и, покричав здесь немного, принимаются за пляску. Для этого они образуют круг, внутри которого находится собственно арена, предназначенная для танцев. Сюда выходят один или два из присутствующих, прыгают, кивают головой, приседают, подскакивают вверх, машут крыльями и вообще всякими манерами стараются показать свою ловкость и искусство. Остальные присутствующие в это время смотрят на них, но немного погодя сменяют усталых, которые в свою очередь делаются зрителями. Такая пляска продолжается иногда часа два, пока, наконец, с наступлением сумерек утомленные танцоры закричат хором во все горло и разлетятся на ночь по своим владениям. А затем, — заканчивает он эту чудесную жанровую картинку, — «любезные кавалеры», изо всех сил стараются не упустить ни одного случая «выказать любезность» перед своими самками, тогда как их «более положительные супруги» «занимаются проглатыванием пойманных лягушек» [68]. И параллельно этому с глубоким сочувствием и состраданием описывает он скорбь журавля, потерявшего свою подругу, который, убедившись, наконец, в бесполезности своих поисков, решается покинуть это место [69].
Но с наибольшей силой художественное дарование и изобразительное мастерство Пржевальского проявилось в его описаниях пейзажей. К. А. Тимирязев любил говорить о существующем особом и «неразгаданном» «чувстве природы»: его «не берется выразить словом поэт, — говорит он, — в нем не в состоянии разобраться ученый», но оно сближает всех людей и в нем заложен какой-то «безотчетный», широкий патриотизм, соединенный с высокой «любовью к человеку» [70]. «Среди природы, — утверждал К. А. Тимирязев, — более чуток человек и к человеческому горю». В качестве великих примеров подлинной «простой и здоровой» любви к природе, сочетающейся с глубокой любовью к человеку, он приводил имена Тургенева, Некрасова, Мицкевича, Руссо и Байрона [71]. Этот круг имен можно, конечно, значительно увеличить, одно из первых мест в этом ряду должно бы занять имя Пржевальского, по поводу которого вполне уместно вспомнить один глубокий афоризм того же К. А. Тимирязева: «Все великие ученые были в известном смысле великими художниками» [72]. Значительность и вескость этого замечания усугубляется тем, что оно находится в статье, озаглавленной «Наука и обязанности гражданина».