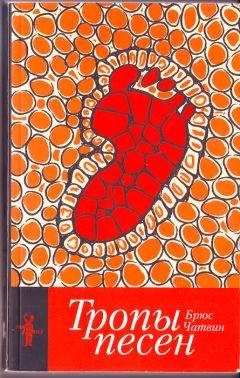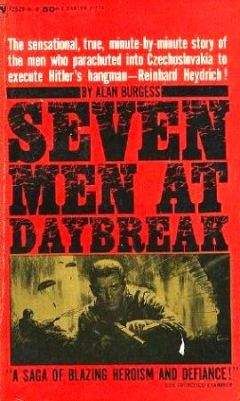В первый же день, когда установилась летная погода, епископ полетел вместе с бенедиктинцами на своей «Сессне» в Роу-Ривер, и там они стали свидетелями нанесенного ущерба, «как два политика-консерватора, осматривающие место, где взорвалась бомба террориста».
Часовня находилась в полном беспорядке. Служебные постройки разобрали на дрова и спалили. Загоны для скотины пустовали, всюду валялись обугленные коровьи кости. Отец Вильяверде изрек: «Нашей работе в Австралии пришел конец».
Флинн тогда перестарался. Он переоценил быстроту, с которой реально распространялось движение за земельные права. Он положился на заверения некоторых деятелей из левого крыла, убежденных в том, что миссии, разбросанные по всей стране, будут переданы в руки чернокожих. Он отказался идти на компромисс. Отец Вильяверде побил его своим козырем.
Эта история затронула Церковь в ее самом слабом месте — в финансовом. Не все знали, что и Бунгари, и Роу-Ривер финансировались из средств, изначально собранных в Испании. Мадридский банк владел этими землями в качестве побочных активов. Чтобы предотвратить любые попытки конфискации, он втихаря продал обе миссии какому-то американскому дельцу, и они оказались поглощены фондами некоей международной корпорации.
Пресса начала кампанию за возврат миссий. В ответ американцы пригрозили закрыть неприбыльную плавильню к северу от Перта — тогда работы лишилось бы около 500 человек. Тут вмешались профсоюзы. Кампания утихла. Аборигенов распустили, а Дэн Флинн — так он теперь себя называл — поселился в Бруме с одной девушкой.
Ее звали Голди. Среди ее предков были малайцы, койпангеры, японцы, шотландцы и аборигены. Ее отец был ловцом жемчуга, сама она была дантисткой. Перед тем как вселиться к ней в квартиру, Флинн на безукоризненной латыни написал письмо святейшему папе, прося его освободить от принесенных обетов.
Потом пара переехала в Алис-Спрингс. Оба принимали участие в аборигенской политике.
Бывший бенедиктинец был окружен полудюжиной людей в самом темном углу сада. Лунный свет заливал его надбровные дуги, само же лицо и бороду скрывала тьма. Его подруга сидела у его ног. Время от времени она выгибала свою длинную красивую шею, склоняя голову ему на бедро, а он щекотал ее пальцем.
Да, молва о том, что характер у него был не сахар, была справедливой. Когда Аркадий сел на корточки возле его стула и объяснил, кто я и чего хочу, до меня донеслось бормотанье Флинна:
— Боже, еще один!
Мне пришлось ждать не меньше пяти минут, прежде чем он соблаговолил повернуть голову в мою сторону. Потом он спросил иронично-любезным тоном:
— Могу я вам чем-нибудь помочь?
— Да, — ответил я, нервничая. — Меня интересуют Тропы Песен.
— Правда?
Он вел себя так обескураживающе, что, казалось, любое твое слово обречено прозвучать как глупость. Я решил заинтересовать его разными теориями происхождения и эволюции языка.
— Некоторые языковеды считают, — сказал я, — что первым языком человека была песня.
Он поглядел в сторону и погладил бороду.
Тогда я переменил курс и начал рассказывать о том, как цыгане общаются через огромные расстояния, напевая друг другу по телефону тайные стихи.
— Правда?
Прежде чем пройти инициацию, продолжал я, мальчик-цыган должен выучить наизусть все песни своего клана, имена всех своих родичей, а также запомнить сотни и сотни телефонных номеров по всему миру.
— Цыгане, наверное, ловчее всех в мире умеют набирать телефонные номера.
— Я никак не могу понять, — заметил Флинн, — какое отношение к нам имеют цыгане.
— Дело в том, что цыгане, — объяснил я, — тоже считают себя охотниками. Мир — это их охотничьи угодья. Оседлые жители — «сидячая дичь». В языке цыган слово «оседлый» буквально означает «мясо».
Флинн обратил ко мне лицо.
— А знаете, как наш народ называет белого человека? — спросил он.
— «Мясо», — предположил я.
— А знаете, как у нас называют благотворительный чек?
— Тоже «мясо».
— Принеси-ка сюда стул. Я хочу с тобой поговорить.
Я отыскал стул, на котором сидел до этого, и уселся рядом с Флинном.
— Извини, что я был немножко резок, — сказал он. — Ты бы видел психов, с которыми мне приходится иметь дело. Что будешь пить?
— Пиво, — ответил я.
Еще четыре пива, — сказал Флинн мальчишке в оранжевой рубашке.
Мальчишка поспешил за пивом.
Флинн наклонился и что-то прошептал на ухо Голди. Она улыбнулась, и он заговорил.
Белые люди, начал он, делают типичную ошибку, полагая, что, раз аборигены — скитальцы, у них не может быть никакой системы землевладения. Это сущий бред. Конечно, аборигены не мыслят свою территорию как сплошной кусок земли, обнесенный заборами; для них это скорее неразрывная сеть, или совокупность цепочек, «троп» или «сквозных путей».
— Все наши слова, означающие «страну», сказал Флинн, — одновременно означают «тропа».
Этому есть одно простое объяснение. Большая часть равнинной Австралии представляет собой засушливую местность, покрытую чахлым кустарником, или пустыню, где дожди выпадают лишь изредка, а за одним тучным годом могут последовать семь тощих лет. В таком климате оставаться на одном месте — самоубийство; чтобы выжить, нужно двигаться. «Собственная земля» человека определялась так: «место, где я не должен просить». И все же, чтобы чувствовать себя «дома» в такой местности, нужно точно знать, как из нее уйти. Все надеялись по крайней мере на четыре «выхода» и «пути», которыми можно безопасно воспользоваться в пору беды. Каждому племени — хотело оно того или нет — приходилось налаживать отношения с соседями.
— Например, если у А были фрукты, — объяснял Флинн, у Б — утки, а у В — разработки охры, то существовали четко определенные правила относительно обмена этими товарами, а также четко определенные торговые пути.
То, что белые люди называли «Обходом», на деле являлось чем-то вроде телеграфа и фондовой биржи, позволявшего обмениваться сообщениями людям в буше, которые никогда не видели друг друга, которые, быть может, и не подозревали о существовании друг друга.
— Такая торговля, — продолжал Флинн, — не являлась торговлей в том смысле, в каком понимаете его вы, европейцы. Это не купля-продажа ради выгоды! Наша торговля всегда была симметричным обменом.
У аборигенов было представление о том, что всякое имущество, «добро», может таить в себе некое зло и способно причинить вред своему владельцу, поэтому оно должно постоянно пребывать в движении. «Добро», служившее товаром, не обязательно было съедобным или полезным. Больше всего людям нравилось обмениваться бесполезными вещами — или такими вещами, которыми может легко разжиться каждый: перьями, священными предметами, поясами из человеческих волос.