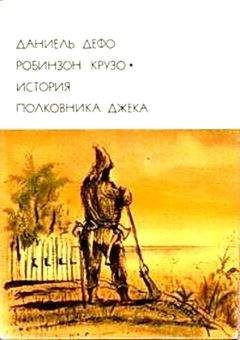Уже темнело, когда мы подъехали к постоялому двору. Я помог вдове выйти из дилижанса, протянув ей руку, и она не отвергла моей услуги. Хотя она немного приподняла капюшон, мне не удалось в темноте разглядеть ее лица. Затем я подвел ее к двери и проводил вверх по лестнице до залы, куда хозяин гостиницы предложил всем пассажирам пройти для отдыха. Однако она отказалась войти туда, заявив, что предпочитает удалиться прямо к себе, и велела служанке сказать хозяину, чтобы он провел их в предназначенную ей комнату. Я проводил ее до двери и ушел, не преминув напомнить, что жду ее к ужину.
Для того чтобы принять ее любезно, но сдержанно и без расточительства, ибо я не заходил в своих намерениях дальше проявлений учтивости, проистекавшей из простого чувства сострадания к горю истинно и беспримерно несчастной женщины, — итак, повторяю, чтобы принять ее достойно, но скромно, я приготовил все, что можно было достать в трактире: пару куропаток и прекрасное блюдо устриц под соусом. Потом нам принесли говяжий язык и окорок, почти весь нарезанный, но мы этого уже не ели, потому что были сыты и оставили столько устриц, что их хватило на ужин служанке.
Я хочу подчеркнуть, что не собирался за ней ухаживать, ни о чем подобном я тогда и не помышлял, а просто питал жалость к несчастной женщине, пребывавшей в крайне горестных обстоятельствах.
Я уведомил служанку, что ужин готов, и она, освещая путь свечой, привела свою госпожу; наконец-то на ней не было плаща, голову не прикрывал черный шарф, а на глаза не свешивался капюшон, и я увидел ее лицо и был поражен его необычайной красотой. Я учтиво поклонился ей и провел ее сразу к камину, так как стол, хотя уже и накрытый, стоял далеко от огня, а погода была холодная.
Она несколько оживилась, но все же была еще печальной и часто вздыхала, вспоминая о своем горе. Но она так искусно владела собой и чувство грусти столь тонко проступало в ее речах, что ее благородные манеры приобретали особую прелесть. Мы долго беседовали о разных предметах, постепенно мне удалось узнать ее имя от нее самой, — раньше мне сообщила его служанка, — а также выяснить, что она живет около Рэтклифа, или, точнее, Степни; я попросил разрешения навестить ее там, когда она посчитает это уместным, и она дала мне понять, что ждать этого придется недолго.
Нелепо занимать внимание читателей описанием красоты человека, которого они никогда не увидят, достаточно сказать, что она была самой прелестной женщиной из всех, каких мне довелось видеть до или после встречи с нею. Не удивительно, что едва только я взглянул ей в лицо, как был пленен, а уж ее манеры были столь благородны, что не берусь описать их.
На следующий день она держалась гораздо непринужденнее, и мы беседовали так долго, что многое узнали друг о друге; она дала мне разрешение заехать к ней и осмотреть ее дом, что я сделал, впрочем, лишь через две недели, так как не знал, сколь долго она будет соблюдать обычаи, приличествующие началу траура.
Все же я получил возможность посетить ее под предлогом дела, связанного с кораблем, с которого сняли ее умирающего мужа, и когда я в первый раз приехал к ней, то был любезно принят и сразу же признался ей в любви. Она отнеслась к моему объяснению неодобрительно, и хоть и не позволила себе резкостей, но твердо заявила, что мое предложение привело ее в ужас и она впредь не желает слышать ничего подобного.
Я сам тогда не понимал, откуда у меня взялась смелость сделать ей предложение, хотя намерение это зародилось у меня с первой же встречи.
Тем временем я навел справки о ее денежных делах и нраве — и получил самые благоприятные сведения и о том и о другом. Но всего важней то, что она пользовалась славой самой добросердечной и благовоспитанной дамы во всей округе. Я уверовал, что нашел наконец то счастье, к которому, дважды потерпев неудачу, так долго стремился, и твердо решил не упускать эту женщину, если будет хоть малейшая надежда добиться ее.
Правда, иногда я вспоминал, что женат, что жива моя вторая жена, с которой, хотя она обманывала меня и оказалась потаскухой, я не разведен, и поэтому она остается моей женой. Но я быстро преодолел эти сомнения, так как, раз она продажная женщина, в чем мне признался маркиз, значит, мой брак вроде бы как расторгнут и я имею право избавиться от нее. Из-за злосчастной дуэли, заставившей меня покинуть Францию, я не мог возбудить судебного процесса, но поскольку я имел на это законное право, у меня было не меньше оснований считать свой брак расторгнутым, чем если бы развод произошел на самом деле. Так я избавился от угрызений совести по этому поводу.
Я терпеливо выждал два месяца, не напоминая вдове о себе, и лишь строго следил, не проявляет ли к ней интерес еще кто-нибудь. Когда прошло два месяца, я снова навестил ее и был принят более непринужденно — не было ни вздохов, ни рыданий по покойному мужу. И хотя она не разрешила мне повторить мое предложение так настойчиво, как я того хотел, мне было все же позволено приехать еще раз, и я понял, что самое важное для нее — соблюдение приличий, что я ей не противен и своим любезным к ней отношением в дороге снискал ее расположение.
Я продолжал видеться с ней и дал ей возможность повременить еще два месяца, но потом сказал, что правила приличий — одна лишь видимость и не идут ни в какое сравнение с чувством любви, что я не в силах долее сносить промедления и что мы, если ей так приятнее, можем пожениться тайно. Короче говоря, своими ухаживаниями я заставил ее принять решение, и примерно через пять месяцев мы тайно обвенчались, причем так искусно скрыли это, что даже служанка, которая столь многим споспешествовала нашему браку, целый месяц ничего не знала.
Теперь не только в воображении, но и в действительности я стал самым счастливым человеком на свете, так как был полностью всем удовлетворен. Моя жена на самом деле оказалась добрейшей в мире женщиной, отличалась совершенной красотой и отменной воспитанностью, словом, не имела ни единого недостатка. Это блаженство длилось, не прекращаясь ни на мгновение, почти шесть лет.
Но и на этот раз мне, которому на роду было написано изведать тяжкие страдания в семейной жизни, был в конце концов вновь нанесен тяжелый удар. Жена подарила мне троих прелестных детей, и вот, родив последнего, она схватила простуду, от которой долго не могла оправиться и очень ослабла. Во время этой длительной болезни она, к несчастью, привыкла принимать сердечные лекарства и горячительные напитки, а влечение к питью, подобно дьяволу, завладевает человеком и потихоньку да помаленьку ведет его к гибели. Так случилось и с моей женой: желая избавиться от болезни и слабости, она принимала то одно лекарство, то другое и вскоре не могла уже жить без них, — так она переходила от капли к глотку, от глотка к рюмочке, от рюмочки к стакану, а то и двум, пока не пристрастилась к тому, что принято называть пьянством.