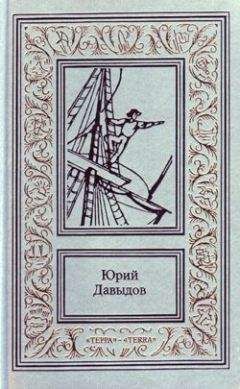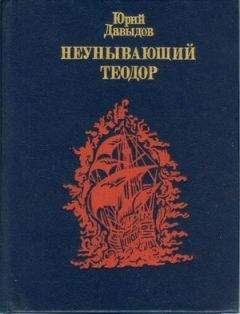Эти двое интересовали секретаря Тайной экспедиции. По разным причинам, но интересовали.
На Баженова хотелось взглянуть, каков из себя один из любимцев наследника престола. (Выше я уже приводил известную сентенцию: руководить – значит предвидеть.) Показания о «злодействе черни» дал Баженов нехотя, но с нажимом показал, что Модельный дом не тронули. Записали. Очередь была за Федором.
Г-н Шешковский смотрел на него с любопытством.
– Да-а-авно о тебе наслышан.
Федора бросило в жар. Сызнова, как в Питере, но сильнее, сильнее проняло чувством без вины виноватости перед батюшкой. Спасаясь от этого чувства, он, вопросов не дожидаясь, объявил, что, ежели здраво судить, московская власть причиною Чумного бунта… Странно, Степан Иванович хотя и пресек горячность молодого человека, однако не озлобился. Странно и то, что, выговаривая Федору за неисполнение отцовской воли, выговаривал опять же не злобно, а, скорее, благодушно.
Приоткрою душевную тайну секретаря Тайной экспедиции.
Он служил государыне истово, а не рабски, пусть и титулуясь неизменно рабом ее величества, но многих из столпов ее царствования презирал. За казнокрадство и взяточничество, за угодничество перед матушкой. Бояре! Он тоже брал взятки и тоже угодничал, да ведь не был же, не был потомственным дворянином, дед в денщиках ходил, отец – в приказных, не из благородных он, его высокоблагородие г-н Шешковский. И если берет, то сие столь же невинно, как прокорм халтурой, даровым угощением на поминках.
Так вот, он презирал «этих» – с младенчества все даром и все им мало. А «эти» презирали Шешковского. Он напускал на себя смирение, скрывая безбоязненность своего презрения. Но тут еще не вся задушевная тайна застеночного чародея…
В секретной сладости его отношения к вельможам бесшумно, как травка, проросло что-то похожее… Право, затруднительно определить отношение Степана Иваныча к людям третьего чина. Милосердие? Оно вообще не было ему свойственно. Снисходительность? Нет. Вот что, однако, примечательно. Бывало, «исследует» да и выставит резолюцию: признавая такого-то развращенным, уповаю, что оный по слабости духа не способен на пагубное деяние. И шабаш, не рвут ноздри, не гонят в Сибирь. Как прикажете понимать? Может, вроде кукиша «этим». Пусть в кармане, а все-таки кукиш. Тайная блажь секретаря Тайной экспедиции. Положим, так, но отчего благодушие в разговоре с Каржавиным-младшим? В пучок сошлось! Малый был первенцем Каржавина. А тот вроде был первенцем его, Степана Иваныча, нешуточного попрания указа о взяточниках. Но если так, почему ж Степан Иваныч не приструнил ослушника отцовской воли? Мешало презрение к «этим»; своих щенков в Парижах холят, они оттель мартышками выскакивают, а наши-то, такие-сякие, на черством хлебушке которые, соколами взлетают.
При всем том, отпуская Федора, назиданье сделал:
– А книжек-то больно много не чти, а то во ереси впадешь…
Ереси? То-то послушал бы Степан Иваныч, какие сюжеты обсуживают в Модельном доме и там, за Москвой-рекой, в Садовническом.
Московский бунт потряс душу. Баженов сокрушался: «Простолюдин подобен вепрю». Каржавин не спорил: «Кровавые нелепости». Тем и исчерпывалось согласие. Не потому лишь, что Каржавина восхищала отвага и удаль простонародья в яростной схватке на Красной площади, восхищал Герасим – Кобыла: «На штыки – грудью!» Нет, обнаружился водораздел. И размышления, как потоки, берущие начало на горном кряже, устремились в разные стороны.
Зодчий, созидающий зримое, как бы изнемогал под властью рационализма. И помышлял о созидании незримого Соломонова храма в душе своей. Каменных дел мастер тянулся к вольным каменщикам. Сущность масонства усматривал не в обрядности и даже не в филантропии. Полагал так: фундамент человеческого братства закладывается по кирпичику; общая гармония произрастет из гармоний «я», из гармоний личностей; начинай не призывом ко всем, начинай призывом к своему сердцу, живи жизнью духа, день без нее не имеет солнца, а ночь – звезд.
Каржавина рационализм не тяготил. День не имеет солнца, ибо солнце в тучах рабства. Ночь не имеет звезд, ибо звезды застит невежество. Рабство и невежество – сообщающиеся сосуды. Упразднив первое, упразднишь второе. Воспаряя в сферы духа, спускайся на грешную землю. Грешной земле нужны решительные перемены. Такие, чтобы заложили фундамент братства.
А фундамент Большого дворца закладывали в июне 1773 года. Толпы горожан, запруживая Кремль, теснились, рокоча, под высоким небом с неспешным наплывом обложных туч. Все московские сорок сороков благовестили. Рокот и колокольный звон накрывало, как шапкой, уханье пушек, и это мирное торжество Марса, казалось, останавливало тяжкий и плавный наплыв сизых, с рыжими подпалинами от солнца грозовых облаков.
Архитекторская команда шла церемониально во главе с Баженовым. На массивном серебряном блюде нес зодчий кирпичи из снежно-белого мрамора: один с вензелем государыни, другой – наследника. Бледное лицо Баженова было в крупных каплях пота.
Каржавин знал распорядок. Василий Иванович произнесет речь, совместно сочиненную с поэтом Сумароковым, а потом колокола и пушки грянут, и его сиятельство главнокомандующий Москвою свершит «положение первого камня» в фундамент Большого Кремлевского дворца.
Да, помощник Баженова шествует вместе со всей Архитекторской командой, шествует посреди несметных толп, все наперед расчислено, но помощник зодчего думает: «Пустили пыль в глаза, только всего и есть». Так думает он не о позабытом «Наказе», нет, о нынешнем празднестве.
Государыня, изнемогая под бременем военных расходов, теперь пускала пыль в глаза. Внемлите, народы, покоритесь, языци – если мы ссужаем миллионы на украшение нашей древней столицы, стало быть, есть и золото в бочках, и порох в пороховницах. Кремлевская демонстрация была царскосельской мистификацией.
В крупных каплях пота прекрасное лицо зодчего Баженова. Вытянув руки, несет он напоказ всей Москве, всей России серебряное блюдо с беломраморными кирпичами. Баженову ли принять тайное известие о пресечении кредитов на строительство Большого дворца?
А помощник зодчего? Сердце сжимается при мысли о несчастии друга. Великий дар! И вот начало конца под этим июньским небом в обложных тучах. Душно!
Федор «держит шаг» в церемониальном шествии Архитекторской команды. «Пыль в глаза, обман», – беззвучно повторяет Каржавин. Как душно! Он рассеянно посматривает на толпы пеших и конных москвичей, замечает грузного г-на Демидова, восседающего в коляске. Прокофий Акинфович важно кивает и вдруг корчит рожу – один глаз, круглый и черный, выпучен, а внушительный нос непостижимым образом передвинут чуть ли не к уху. Черт знает что на уме мильонщика Демидова. А векселек-то, думает Каржавин, векселек-то на шесть тысяч гульденов на полу не валяется. Нечего медлить. Чужд ты и отчему дому, и нет тебе места в отечестве. Не приспели сроки грудью опрокинуть штыки, и еще не дано заложить на родине тот фундамент, о котором ты, Федор Васильевич, говорил Василию Ивановичу. Раз так, ступай объяви свое окончательное согласие.