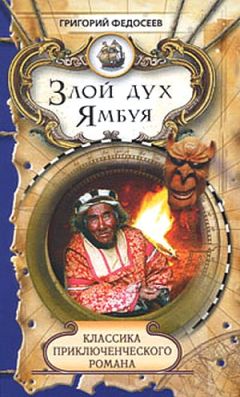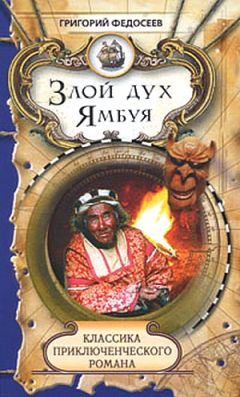Олень под Ингой идет осторожно, мягко, точно понимает, какой груз у него на спине. Но женщина болезненно вздрагивает от каждого шага.
— Мод!.. Мод!.. Мод!.. — все чаще слышится крик Лангары, поторапливающей уставших животных.
Пробираемся через чащу вверх по пади. Каждая веточка, каждый куст, только дотронься до них, сбрасывают на нас поток воды. Как терпят дети все трудности пути! Ни один не пикнет, все съежились, прилипли к оленям, словно их и нет.
Выходим к береговому ельнику. За ним злобится мутный поток, до отказа напоенный дождевой водой. Его гривастые волны накрывают валуны, толкают друг друга, с ревом проносятся мимо, дальше и дальше, туда, где еле слышатся отдаленные раскаты грома.
Инга что-то отчаянно кричит Лангаре.
Та не отвечает, не оглядывается, гонит учага дальше, энергично толкая его в бок концом посоха.
Старуха не ищет брода, даже не останавливается, а с ходу вместе со всей связкой оленей вваливается в поток.
Вздыбились толпы разъяренных бурунов, обрушились на караван, но решительность Лангары придала смелости животным, и они почти на рысях перемахнули через мутный поток.
Лангара и нас увлекла своей стремительностью. Инга снова кричит, полная отчаяния.
Старуха продолжает беспощадно гнать оленей к холму, прикрытому пятнами бледно-желтого ягеля.
Уронив безвольно голову на грудь, Инга покачивается в такт быстро идущему оленю и все чаще корчится. Из прокушенной синеватой губы у нее сочится кровь… Поводной ремень волочится под ногами учага. Я поднимаю его и иду впереди, чтобы не видеть страданий женщины.
Но вот перелесок, за ним холм. Лангара остановила караван. Олени долго не могут отдышаться от быстрого бега. Я помог Инге сойти с учага, посадил на приготовленные для нее шкуры; силы покидали ее, но и теперь не слышалось ни стона, ни вздохов, ни жалоб. Только иногда, откинув назад голову, она с мольбою смотрела на небо. От лица у нее отхлынула кровь — оно посинело, потом стало пугающе бледным.
Подвели учага с больной Аннушкой. Мать с тревожным предчувствием развязывает ремни, откидывает край одеяла, припадает щекой к щеке ребенка. Аннушку, кажется, не спасет и пенициллин. Изредка приоткрывая рот, она судорожно глотает воздух. Пульс по-прежнему плохо прощупывается. Как только она вообще перенесла этот путь на олене через топи, мари, броды!..
Подошла Лангара, посмотрела на больную девочку и пронизала меня недобрым, обвиняющим взглядом.
— Через два часа снова буду говорить с врачом, — смущенно оправдываюсь я.
— Не обманывай, — строго обрывает меня . Лангара. — Разве не видишь, ее уже нет с нами?! Говорю, Харги идет нашим следом, беду несет нам.
Стада еще нет. Павел ставит нашу палатку, а мы с Долбачи помогаем устроить ночлег женщинам. Все работают быстро. Дети вслед за взрослыми бросаются в лес и тащат оттуда лиственничные ветки, жерди, сушняк для растопки.
Ставим один большой чум только для женщин и детей. Мужчины переночуют у костра. Пастухи тайно перебрасываются какими-то короткими фразами, тревожно поглядывая на скрюченную и ничего не замечающую вокруг Ингу.
Лангара ловко работает пальмой[12], очищает от сучьев ветки, принесенные детворой, и разбрасывает по «полу» будущего чума. В ее движениях расчетливая торопливость. Она молча командует всеми. Достаточно жеста ее руки, одного взгляда, как ты, будто загипнотизированный, подчиняешься ей.
Я беру топор, срубаю березку с еще не осыпавшимися листьями, очищаю ветки и тоже разбрасываю их по «полу». Лангара вдруг замечает мою работу, коршуном налетает, вырывает из рук ветки, собирает их с «пола» и, ничего не сказав, уносит обратно в лес. Возвращается, говорит с гневом:
— Только дурной люди может топтать ногами березу или жечь ее на костре. Разве ты у эвенков видел такое? — Голос ее дрожит, она замолкает, сжимает тонкие губы, чтобы не сказать более резких слов.
— Право же, Лангара, я не знал этого обычая. Извини, мне просто хотелось помочь тебе.
— Плохо помог. Надо хорошо помнить: тот, кто обидит, сломает или срубит березку, худо ему будет в пути, сам заболеет или олень пропадет. Разве не видишь, у нас и без того беда из чума не выходит! И Аннушка, и Инга… А ты березу еще срубил… Плохо это, — и добавляет уже без гнева: — Березу, по законам отцов, надо беречь, она сестра людям, радость им. Пусть много ее будет в тайге.
Я стою перед этой древней старухой, как мальчишка, пойманный с поличным. А ведь действительно наша северная береза, с зелеными кудрями, белоствольная, на этой мерзлой, бедной земле, может быть, раньше была единственным утешением для человека, его радостью; не зря эвенки так бережно относятся к ней.
Лангара уходит и подзывает к себе Сулакикан, что-то говорит ей быстро-быстро и, захватив свитки березовой коры, топор, поспешно уходит за холм.
Мы с Долбачи накрываем чум. Дети один перед другим стараются помочь нам. Инга молча вздрагивает, жмется спиной к корявому стволу лиственницы. Ее взгляд деревенеет. Она зажимает руками рот, чтобы не выдать страдания. Сколько терпения у этой женщины!
Из-за холма слышится стук топора.
— Что они там делают? — спрашиваю я у Долбачи.
— Чум для Инги. Она будет родить в другом месте, подальше от стоянки.
— Надо помочь им. Женщины одни быстро не справятся, а Инга уже не может ждать.
— Мужчины не должны знать, как ставят чум для роженицы, — ответил невозмутимо Долбачи. — Это делают сами женщины.
На соседних буграх угасал дневной лиловый свет. Павел разжег костер. Продрогшие дети сгрудились возле огня. Они не боятся уже лючи. Ребята ловко сушат одежду прямо на себе, не раздеваясь. От нее идет густой пар, пахнет распаренной лосиной.
Когда костер разгорелся, Битык взял три горящих головешки, понес их к Инге. Ребята тащат за ним сушняк и сообща разжигают костер. Забота детей трогает всех нас. Я тоже беру несколько поленьев, подхожу к Инге.
От жара костра она немного распрямляет согнутую спину, поднимает голову. Искаженное муками лицо улыбается детям. Сухие, синие губы беззвучно шевелятся.
Вернулась Сулакикан. Она отобрала из вороха вещей несколько оленьих шкур, достала из поток какие-то свертки и две мягко выделанные кабарожьи шкурки. Приказала трем старшим ребятам все это отнести в чум за холмом. Молча подошла к Инге, помогла ей встать, и они медленно двинулись к чуму за холмом.
Мы долго смотрели вслед уходящим женщинам. Казалось, Инга никогда не была такой покорной и доверчивой, как в эти минуты, готовясь стать матерью.
Подошли и пастухи со стадом. Марь оживилась криком тугуток, растерявших матерей. Но вскоре все смолкло, по редколесью разбрелись в поисках корма серые тени оленей.